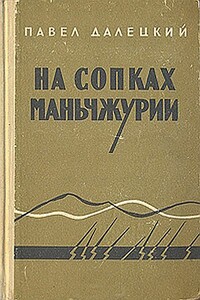Концессия | страница 51
Тихо и незаметно он пережил революцию и интервенцию. За это время у бегущих за границу людей скупил за бесценок массу вещей. Многие замечательные произведения китайского искусства, вывезенные из Китая в боксерское восстание, попали в его руки.
Юность и зрелость человека — соседние страны. Иногда ничто их не разделяет, кроме воображаемой черты, но иногда между ними — высокий хребет, и перевал из одной в другую богат опасностями и потрясениями. И часто за перевалом — совершенно другая страна. Она может быть пышна и богата или, наоборот, бесплодна и безнадежна.
Эту новизну перехода испытал Илья Данилович.
Прежде всего он почувствовал, что ему надоело наслаждаться своей духовной исключительностью: вопреки ожиданиям, она ни в чем не проявилась. Дольше он не мог сторониться и созерцать. В стране зрелости он захотел жить.
Он захотел жить и быть счастливым. Конечно, никакого счастья он не видел в том, в чем видели его люди, сотворившие революцию. Он хотел своего собственного, греховодовского счастья.
Но как взять его в СССР? Как взять в СССР греховодовское счастье?
Греховодов ответил: в СССР его взять нельзя, но в СССР можно взять деньги.
В тиши, с блестящими глазами, с вздымающимся, точно заряженным электричеством, непобедимым рогом, философ строил планы завоевания счастья.
Для счастья нужно золото.
Но как добыть золото в теперешней России?
Украсть!.. и... бежать за границу!
Идти в тайгу приискателем? Трудно, фантастично и для Греховодова неосуществимо.
Золото нужно взять иначе.
Путь к нему — через доверие.
Доверие, власть, хозяйственные миллионы, настоящие, золотые. Он, Греховодов, директор треста, командирован за границу сделать заказы. Он дает телеграмму: срочно переведите три миллиона... и прости, прощай, советский рай!
Глаза его блестели, грудь расширялась. Игра стоила свеч.
«Я осуществлю. О-су-щест-влю, — шептал счетовод сквозь зубы. — Но осторожность! Но упорство! Сто раз назад, тысячу раз в сторону, тысячу тысяч на месте! Но победить! Жизнь уходит, второй раз меня не пригласят на землю».
Раньше он был равнодушен к службе и тем более к общественным обязанностям. Все это отнимало время от сосредоточенности, уединения, философствования.
Сейчас, когда он распростился с философствованием и уединением, он стал не похож на себя. Во всем, что касалось службы, он стал точен, как хронометр, на глазах у всех радостен и восторжен. На заседаниях и собраниях он не мог без дрожи в голосе произнести «революция» и «наша партия». Бывали случаи, когда вслед за этими словами он ожидал, что вот-вот в глазах его нальется слеза. И что всего удивительнее: и восторг, и слеза в глазах в подобные минуты были как бы совершенно искренними.