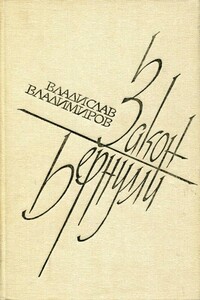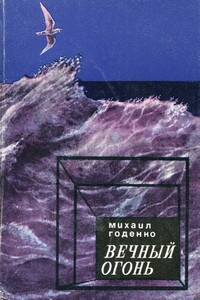На гарях | страница 36
В коридоре загремели тележки, и кисловатый запах баланды расползся по камерам. Котенок успокоился и, не взглянув на Романа, прошел к своей постели. Он отбросил костыли, свернулся калачиком на подушке. Так показалось Роману, который продолжал наблюдать за ним: Котенок занял дальний угол кровати, где лежала подушка, и высохшие на нет ноги сразу же исчезли под его крепким туловищем. Он не двигался.
Писка, дохлый подросток, с огромными глазами на лице-кулачке, припав к волчку, пытался что-то разглядеть в коридоре. Ему не терпелось, хотя котел, судя по грохоту, накатывал — вот он, рядом, через пару дверей, где хлопают откидываемые надзирателем «кормушки».
— Не скись ты, Писка! — с раздражением проговорил Роман, бросая журнал на тумбочку. — Не провезут же баланду… А то смотри, Зюзик тебя посадит на кукан! Ему наплевать, что ты тощий.
Писка оглянулся. Кровяная сеточка выступила на бледной щеке.
— Подавиться, — прошипел он. — Я не скусь, — глянул негодующий подросток на Романа, что затеял этот разговор. — Подумаешь — баланда! Я, может, о другом думаю.
Зюзик промолчал, но Роману хотелось выяснить, о чем думал и думает Писка.
— Не в Дусю ли ты влюбился? — спросил он.
— Нет! Воровок не уважаю, — отозвался Писка. — Хоть сам, сам дербанул…
— Ходики! — поймал его на слове Зюзик. Он раскурил папиросу и с презрением в голосе продолжал: — Понимаете— кража века: часы спер!.. Молчал бы уж.
— Отвали, свол… — хотелось Писке осадить этого наглеца, но он поперхнулся.
Теперь только Писка понял, что его нарочно выводят из себя, и, не ответив Зюзику, отвернулся к волчку. Ему противен был этот разговор, начатый Романом, но тут же вывернутый наизнанку этим носатым брехуном. А может, просто он был сегодня не в духе, потому молчал, как на том суде, когда ему присудили два года, в сущности, за безделку (подростки вообще не признают виновности, особенно те, кто осужден впервые). Даже Котенок, исповедовавший новичка, поразился: «За такую кражу — на кичу? Ну ты даешь, в натуре!» По его мнению, это не стоило и десятка стерлядей, вовремя выловленных в родном Иртыше. Но Писка сглупил, «тасанул сверчка», а молчаливый адвокат не стал «править» положение и твердым голосом произнес: «Держитесь, гражданин!» — чтобы тотчас выплыть из зала, в котором тишина съела все — и сопение внимательных старушек, и монотонный голос судьи, шуршащего подшивкой «дела», и покашливание застоявшихся милиционеров, охраняющих подсудимого (уж такой порядок: охраняй — хоть клопа, если он до боли укусил кого-то, до крови). Только бабка его, опомнившись после оглашения приговора, накричала на своих подружек, сидящих рядом: «За что, господи? Это все вы, — шепелявила она. — Господь, он все равно достанет неправых…» И самому Писке было всегда стыдно рассказывать о своем преступлении, где сути — на грош, и он бы, конечно, рад был промолчать, но камера призывала к чистосердечности: «На суде фаланулся, а здесь — гаси меки? Гони все, кроме порожняка…» И ему приходилось рассказывать. «Ну, прикандехал я, — начинал он, — к бабуле, шлеп-ноге — она у меня хромает — взял часы настенные и прямиком на „тучу“, чтоб продать их и купить мопед себе. В воротах столкнулся с бабкиными подружками — они, облетевшие осинки, посоветовавшись между собой, решили меня сдать участковому. Тот даже обрадовался, увидев меня, и просопел: „Давно ожидаю… И где, думаю, он, шкет, бродит, почему ко мне не спешит, чего выгадывает? Но теперь прямо скажу: „Начинающего воришку — за чугунный нарез!“ Прощайся с миром воришек…“ Словом, грешков накопилось довольно, чтобы получить свои две пасхи. Вот так, — вздыхал он, мучительно предугадывая реакцию камеры, — оказался я среди вас».