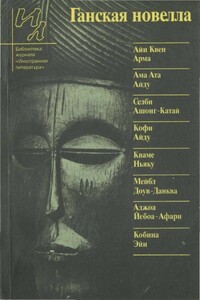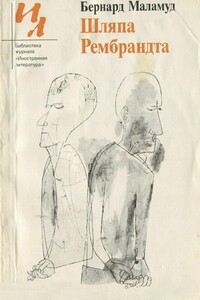Альманах немецкой литературы. Выпуск 1 | страница 36
Когда человеку, которого мучит такая жажда высказаться, долгое время не дают этой возможности, то он готов ногтями выскрести из себя то, что в нем накипело, и втиснуть это в бесконечную тираду, чтобы опутать ею ничего не подозревающих слушателей. То есть вас, говорит господин Вейльхенфельд. Вы ведь и сами видите, говорит он, и правда, мы все видим, как он тонкими пальцами проводит по своему черепу ученого. Вопрос лишь в том, какими словами начать эту тираду, говорит он, но потом заводит речь вовсе не о своей философии, как мы все ожидали, а говорит о продолжительной прогулке, которую он предпринял сразу же после того, как переехал к нам, и на которой город наш постепенно раскрывался ему самыми разными своими сторонами. Как и все другие захолустные городишки, он, будто подранок, забился в свой уголок природы, который словно и был только для него создан в предгорьях Высокого Хайна. Разумеется, силуэт города следовало бы прежде всего очистить от многочисленных фабричных труб, которые бросаются в глаза даже на первый, поверхностный взгляд, чтобы это, чтобы это, говорит господин Вейльхенфельд и снова забывает слово. И, чтобы его смущения не было заметно, он еще глубже погружается в свое кресло. Тогда мама, потому что ей кажется, что в комнате душно, приоткрывает окно и выглядывает на улицу, но теперь на улице много не увидишь, и она снова подходит к нам. Странно, как часто я стал забывать слова, даже самые обыкновенные, как вот только что слово «впечатление», которое я, разумеется, и имел в виду, говорит господин Вейльхенфельд, а ведь некогда я наизусть знал всего «Фауста» — причем обе редакции, — около трехсот самых замечательных стихотворений наших классиков и наиболее интересные фрагменты Кантовой «Критики». Однако вернемся к этой прогулке, восклицает он. Ведь вся история человечества, которая всегда была как нельзя более тесно связана с ландшафтом, эта история никуда нас не ведет, продолжает господин Вейльхенфельд, именно это я неустанно доказываю вот уже в течение тридцати пяти лет. Но люди, вместо того чтобы выслушать меня, говорят: Нет, как бы не так! Ну ладно, во всяком случае, вышел я тогда из города через Рыночные ворота, если не ошибаюсь. И как бы то ни было, вернувшись, я не был больше тем, кем был прежде, не был более самим собой, да и город стал для меня совершенно иным. Тут вы, конечно же, подумаете: Видимо, что-то произошло. Но не это важно, рассказывает господин Вейльхенфельд, с собой в этот разведывательный поход в новой среде обитания я взял бутерброд. Завернутый в бумагу, он лежал у меня в кармане пиджака, я его чувствовал при ходьбе. На ногах у меня были высокие шнурованные ботинки, в руках — бамбуковая трость, над головой голубое осеннее небо в пятнышках облаков, а в голове вопрос о смысле, но не о смысле меня как человека, а всего человеческого вида. Потому что, хотя вопрос этот уже давно решен — в частности, и мною, — потребность наша в истории видеть некое исполнение тем не менее весьма сильна. Мужество же рассматривать себя, свой народ, свою культуру, разнообразие ландшафтов, которые облекают все это, как нечто преходящее, случайное, не имеющее значения, дано очень и очень немногим. В особенности же в такие огромные, безграничные дни, когда все вокруг жаждет увековечения и раскрывается перед человеком, как если бы оно существовало реально. Так что, говорит господин Вейльхенфельд, будь я моложе, не хочу даже говорить, насколько моложе, просто моложе вообще, ведь в действительности-то, даже если это, может быть, по мне и незаметно, внутренне я гораздо старше морской черепахи, прожорливого крокодила… Ах да, эта прогулка, говорит господин Вейльхенфельд, и вот мама подходит с кофе и ставит его перед господином Вейльхенфельдом и господином Магириусом и отцом на низенький турецкий столик. Во всяком случае, во мне проснулось впечатление, что в этом уголке вселенной можно не только умереть, но и жить, говорит он. Итак, я твердым шагом иду мимо рынка — вы следите за мыслью, — выхожу из города, записываю обрывки того, что приходит в голову, и, видимо, как-то заблудился, потерялся, сбился с пути и в местах этих, и в мыслях, потому что неожиданно оказываюсь перед каким-то зданием, которое совершенно чуждо этой местности, как мне кажется, неадекватно ей. Нужно сказать, мне сразу бросилось в глаза, что дом этот необитаемый, для жилья непригодный. Потом у меня мелькнула мысль о тюрьме. Толстые стены, решетки на окнах, наверху, у крыши висело знамя. Знаете ли вы это чувство потерянности, спрашивает господин Вейльхенфельд у отца, случалось ли вам когда-нибудь заблудиться?