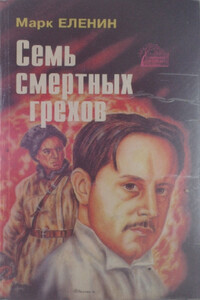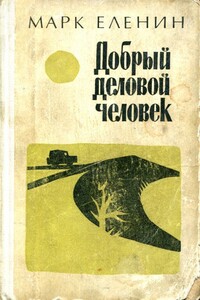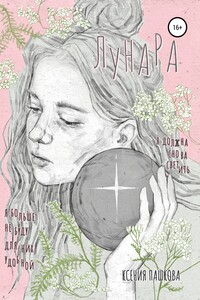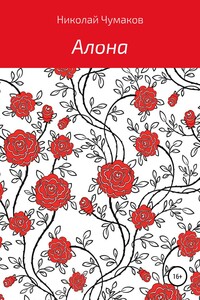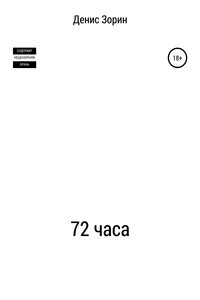Книга 1. Изгнание | страница 107
В феврале 1917-го — уже полковник, командир лейб-гвардии Преображенского полка — Кутепов с десятью ротами преображенцев и кексгольмцев, с двумя эскадронами драгун одним махом брался подавить «беспорядки», прижать «чернь» к Неве и тем кончить революцию. Полковник Кутепов дошел лишь до Кирочной — отряд рассеялся. Ему припомнили это позднее: в начале декабря 1917 года, когда солдатский комитет сместил командира полка с должности и, словно в издевку, назначил его писарем. Обозленный Кутепов уехал на Украину, а оттуда — в Новочеркасск, к казакам. Без колебаний встал в ряды белых. За что? За Единую и Неделимую? За царя и престол? За землю и имущество, которых у него не было? Поначалу, не сориентировавшись, Кутепов не разбирался в политике, смотрел на все происходящее вокруг из своего «окопчика», с позиций перспективного и честолюбивого командира полка. Он рассуждал просто: с одной стороны, был порядок, призывы вернуться к прежней, привычной жизни, с другой — хаос, нечто необъяснимое, не управляемая ничем толпа, возбуждаемая непонятными и противоречивыми лозунгами.
Кутепов, назначенный командиром роты офицерского полка, совершал вместе с Корниловым «ледяной поход», стоял у колыбели, где рождалась Добровольческая армия. Он был назначен командиром полка, начальником дивизии. Летом девятнадцатого он уже командовал корпусом. Его счастливая звезда всходила. Он был упрям, энергичен, если надо — жесток. Небольшого роста, плотный, коренастый, с черной густой расчесанной надвое бородкой, с узкими монгольскими глазами, похожий на солдата с отличной выправкой, он считался знатоком армейской жизни и строевым офицером божией милостью. И хотя особых боевых успехов за ним не числилось, Кутепов всегда был на хорошем счету. Он знал: для спасения Россия необходима хорошая, боеспособная армия, и всеми силами старался создать ее. Армия была нужна Кутепову, и он был нужен армии. Железной рукой Кутепов приводил войска в порядок, беспощадно предавал провинившихся военно-полевому суду, карал смертью дезертиров, порол, срывал погоны, сажал на гауптвахту, разжаловал, обрекал на смерть. И никогда не лез в большую политику — даже в дни самых блистательных успехов деникинского наступления. «Армия должна занять Москву, а затем взять под козырек», — говорил он. Все эти Май-Маевские, Романовские, Врангели, Слащевы, мнящие себя божественными диктаторами, способными к управлению страной, были ему омерзительны. Для себя, отнюдь не лишенного честолюбия, он оставлял лишь русскую армию, управление ею, сплочение под его, кутеповским ландскнехтовским знаменем. Он чувствовал в себе силы и талант сделать армию боеспособной — всю русскую армию, — вести ее от победы к победе, гоня взбунтовавшееся мужичье, истребляя непокорных, искореняя и самое понятие «большевизм», восстанавливая Россию. «Но какую Россию?» — спрашивал себя иногда Кутепов и не находил четких, однозначных, как параграф армейских наставлений, ответов. Александра Павловича не обеспокоило, признаться, и это обстоятельство: он считал себя лишь солдатом, призванным атаковать и разгромить противника. А уж во имя престола. Думы или Учредительного собрания — не так и важно: ему, Кутепову, это разъяснят прожженные политики...