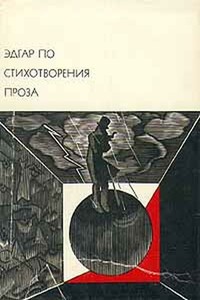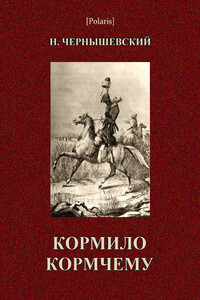Что делать? | страница 7
Нельзя сказать, что новации все эти были беспрецедентны; напротив, они возникли на прочной базе традиций русской и мировой литературы. Так, например, если говорить об авторском «вмешательстве», то ближайшими по времени предшественниками тут были Пушкин с «Евгением Онегиным» (представляющим, кстати, замечательный пример «свободной» композиции вообще) и Гоголь с «Мертвыми душами». Только если у Пушкина и Гоголя авторские отступления диктовались как бы непосредственно лирической потребностью автора, то публицистически заостренные авторские монологи Чернышевского сознательно подчинены прежде всего логике и потребностям той сквозной мысли, которая проходит через все повествование и все подчиняет себе.
Да, именно мысль автора и является основным двигателем романа. Ход авторских размышлений образует сюжет, диктует композицию, создает и вводит новых героев, объединяет в одно целое личности, судьбы и события.
И если рассматривать книгу с этой точки зрения, окажется, что все «ружья стреляют», и притом строго в одну цель.
Вначале перед нами — сугубо частная судьба девушки, задыхающейся в мирке, границы которого обозначены такими типами, как Марья Алексевна и Сторешников.
Эта судьба типична. Отсюда и вырастает тема освобождения тысяч таких же девушек — «сестер» Веры Павловны — из семейного рабства.
Но и это оказывается лишь одной из частных сторон общего, а именно — «женского» вопроса, проблемы эмансипации женщин.
В свою очередь, эта проблема упирается в еще более общий вопрос — вопрос об эмансипации человеческой личности вообще, об освобождении человека от угнетения. Решить вполне и до конца этот вопрос можно, только уничтожив старое общество и построив новое. Решить его можно только революционным путем.
Такова логика судьбы одной женщины.
Сходным образом, с той же целеустремленностью, развиваются и частные линии судьбы героини.
Для подлинного освобождения женщины недостаточно вырваться из-под родительской опеки, недостаточно обрести собственную семейную жизнь — нужна еще и экономическая независимость. Так возникает идея мастерской, а затем и сама мастерская.
Одновременно это средство экономического освобождения становится и средством помощи «сестрам», которые, подобно самой Вере Павловне, стремятся к независимости, превращается в общественный долг служения людям.
Однако в реальных условиях действительности «мирное» служение людям, «мирное» выполнение общественного долга оказывается невозможным. Встает вопрос о служении «немирном», о преобразовании революционном.