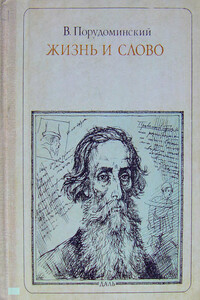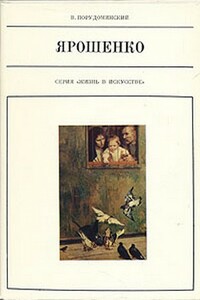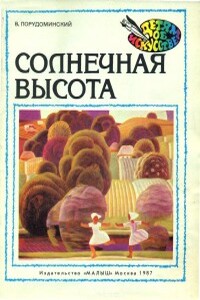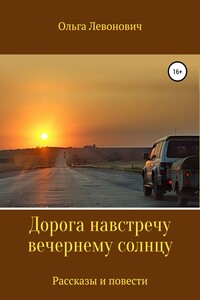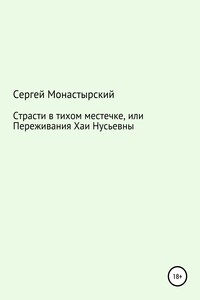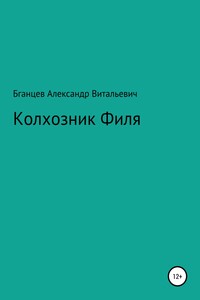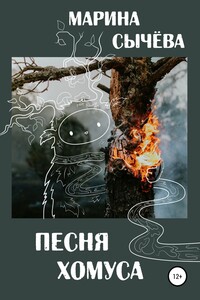Позднее время | страница 71
В Астапово мы приехали ночным поездом. Ночи стояли долгие, дни короткие и темные — конец ноября (очередная годовщина со дня смерти Толстого). Сотрудницы тамошнего маленького музея — в пристанционном здании, где, в комнате начальника станции, умер Лев Николаевич, — нас ждали; накормили горячими пирожками и творогом, какого в Москве давно не едали, напоили душистым чаем с медом. Беседовали сообразно с обстоятельствами места и времени, и при этом душевно (та душевность ночных бесед, когда собравшиеся, пусть на эту ночь всего, объединены общностью мысли и чувства), а в ту комнату идти не спешили: кажется туда и электричество не было проведено, во всяком случае, не помню, что его зажигали. Была какая-то внутренняя необходимость в том, чтобы не очертя голову, не сразу, не с дороги — смотреть, чтобы, не думая об этом специально, не прикидывая, не рассчитывая, дождаться минуты, когда только и останется, что пойти, когда уже нельзя не пойти, когда все предшествующее сойдется в одну точку, в этот неизбежный следующий шаг.
С сжавшимся от волнения сердцем — по темному коридору, и — налево: надо одолеть проем двери, пробудиться в его смерть — в его жизнь. Снизу дверной проем заложен листом плексигласа, чтобы посетители не входили, смотрели с порога, но для нас (мы — из московского Музея Л.Н.Толстого) плексиглас убрали, и мы — вошли. За окном было еще совсем темно, засветили то ли лампу керосиновую, то ли фонарь, то ли свечу: свет был не электрический — теплый, живой, подвижный, каждая вещь в комнате — жила, повторяясь глубокой тенью, всё было не по-музейному, не расставлено, а именно так, как было (как стояло тогда) — железная кровать, столик, стакан, стул с вынутым сиденьем и подставленным снизу ведром, занавеска на окне, и среди живых вещей на тогдашних уцелевших обоях — карандашом обведенный профиль его, профиль тени его, уснувшего и пробудившегося в иную жизнь. Он жил здесь (той ночью и для меня — несомненно), в каждой вещи, профилем на стене, воздух в комнате был заполнен его присутствием... Начало светать — я вышел на улицу.
К утру подморозило. Земля была присыпана свежим снегом. Пахло близкой зимой, дымом топящихся печей, металлом и мазутом пролегавшего рядом железнодорожного полотна. Приземистое, обшитое досками одноэтажное пристанционное здание неспешно выбиралось из темноты.
Вдруг вспомнилась эта замусоленная вместе со страницами бессчетно читавшейся книги дичь: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»... Когда-то я тоже хохотал над нелепо смешным (так же, как про апельсины бочками и братьев Карамазовых) текстом телеграммы, которой великий комбинатор атаковал запуганного советского миллионера, — с годами, умудрясь, хохотать перестал, не улыбнусь даже (в оправдание авторов: их молодое советское потешенье над прошлым в данном случае питалось словесной пошлостью газетных репортажей 1910 года: «Горе супруги Льва Толстого... Софья Андреевна, узнав о бегстве мужа, совсем потеряла голову. Она с горькими рыданиями побежала на пруд и бросилась в воду...»). Теперь перед глазами страшная, облетевшая весь белый свет фотография: одинокая старая женщина, укутанная в платок, с улицы прижалась лицом к стеклу окна, загородилась рукой в рукавице, чтобы не отсвечивало, чтобы поглубже проникнуть взором в темноту комнаты, разглядеть