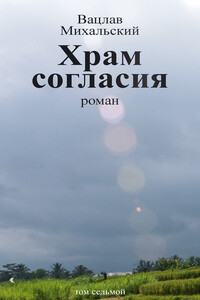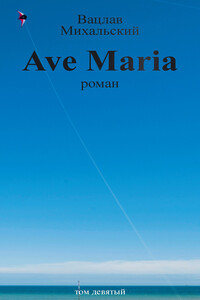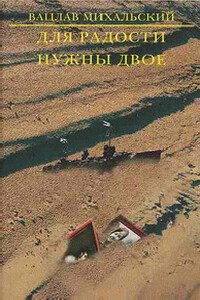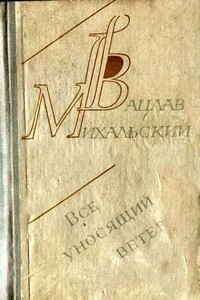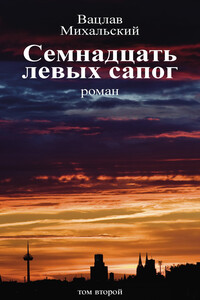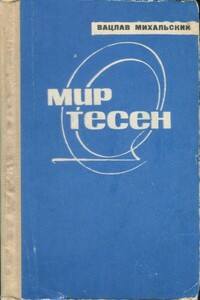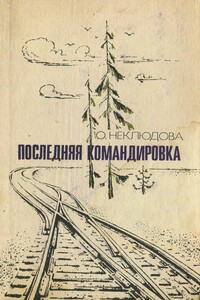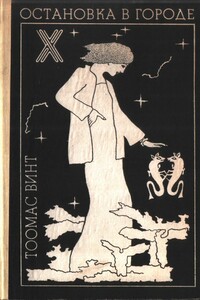Том 3. Тайные милости | страница 99
Анна Ахмедовна усмехнулась своим мыслям: насчет дочек-матерей она, конечно, хватила! Но все же могли бы их отношения сложиться как-то веселей, человечней, проще, без того подчеркнуто-вежливого угрюмства («Вы не против, если я погашу свет в коридорчике?», «Я считаю, что процеживать не нужно, но я не настаиваю – делайте, как хотите», «Вы не могли бы пойти завтра со мною на базар?»), к которому подтолкнул прежде всего ее, Анны Ахмедовны, характер.
Много, ох много напортил в жизни ее характер! Может быть, и не зря та же Надя считает ее гордячкой, голубой кровью. Какая там голубая… просто досталось по наследству от князьков спеси больше, чем простоты.
Простоты всегда не хватало ей в жизни. То, что для других было пустяком, она сплошь и рядом возводила в непреодолимое препятствие. Бывало, муж выговаривал ей по этому поводу: «Смотри на жизнь проще, не усложняй на каждом шагу. Ну почему, спрашивается, тебе стыдно пойти к соседке за куском хлеба или за щепотью соли, почему? Почему ты не можешь сказать своей начальнице, чтобы она не наваливала на тебя работы в три раза больше нормы? Почему ты не можешь взять в магазине без очереди коробок спичек? Это же смешно – выстаивать за спичками хвост!»
Да, многое в этой жизни она не умела. Во многом не могла преодолеть себя. Именно преодолеть. Как будто удерживал ее кто-то невидимый, притом так крепко, что и бороться с ним было бессмысленно.
«Счастье – это ловкость ума и рук, все неловкие души за несчастных всегда известны» – похоже на правду, хотя и стихи…
Наверное, она прожила жизнь с неловкой душой. Прожила. Теперь уже ничего не воротишь и не поправишь. Да и сейчас, задним числом, она бы не стала ничего переделывать. Если сейчас переделывать, значит, опять-таки влезть куда-то без очереди, пусть хоть к самому господу Богу – разве это меняет дело?..
Нет, она никогда не была безответной овечкой. Ведь это она, а не какая-то другая – смелая, упекла под суд начальника госпиталя, обворовывавшего мертвых. Начальник их тылового госпиталя был человек до того начитанный, что решил повторить в военных условиях мирные подвиги гоголевского героя – каждый умерший офицер стоял у него на полном довольствии еще две-три недели после смерти, некоторые даже успевали получить хромовые сапоги. Начальник госпиталя грозился лично пристрелить ее как собаку, но на всякий случай и уведомил органы о том, что «пригрел у себя на груди змею из недобитых князей и контрреволюционеров», которая мало того, что ворует мыло, чтобы мыть им свои косы и продавать на базаре, да еще и неуважительно отзывается о вожде. Насчет последнего начальник написал, что отзывы ее настолько ужасны, что он «не решается их повторить». Такое было дело. Но она не дрогнула, довела все до конца – расстреляли его, начальника. Может быть, сыграл свою роль и портрет ее отца – погибшего в гражданскую войну красного командира; портрет его был случайно обнаружен одним из разбиравших дело на стене местного краеведческого музея. «Что же ты ничего не сказала нам про отца?» – спросил ее тогда разбиравший. «Я ведь сказала – умер в двадцать пятом году». – «Умер? Там написано погиб, а не умер, он же у тебя герой, что за чепуха!» – «Нет, он не погиб, он умер от ран, умер в своей постели». – «Глупая ты, – подытожил разбиравший, – хотя и везучая…»