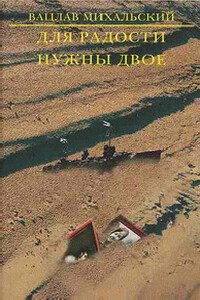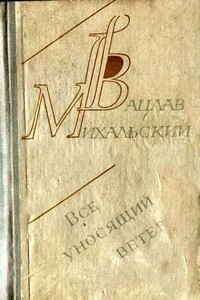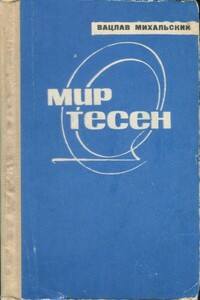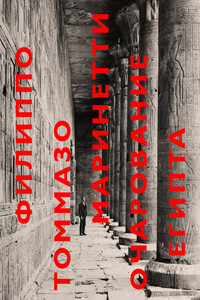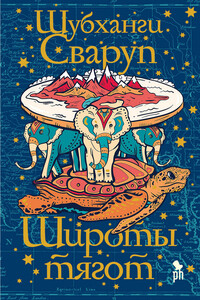Том 3. Тайные милости | страница 110
– Чего это ты? – удивилась спросонья Надежда Михайловна, когда он вошел в спальню. Сердце ее вздрогнуло, показалось, что он направляется к ней.
– На море хочу сбегать, где мои плавки?
– А-а, в нижнем ящике. Сколько сейчас?
– Половина шестого, – шепотом ответил Георгий, взял из шифоньера плавки, махровое полотенце и заботливо, на цыпочках, выскользнул из спальни жены: пусть спит и видит сны.
В прежние времена, особенно в бытность редактором молодежной газеты, Георгий частенько ходил на море до работы, в ранние утренние часы, так что это не было новостью для Надежды Михайловны.
Город еще досматривал сны, но рабочий люд уже высыпал на улицы. Ходили рейсовые автобусы, проехала поливалка, и вкусно пахло прибитой водой пылью; перекупщики катили из соседних проулков на близлежащий базар тачки с зеленью.
– Родителы, родителы! – хрипло кричал на перекрестке молочник, прислонясь к вспыхивающему на солнце цинковому кузову своего мотороллера. – Родителы, простокваш, йогурт, кепир – псе сартимент[7], родителы!
Маленький, в белом залапанном халатике, в кепке с огромным козырьком-«аэродромом», рябой, носатый, обросший бурой щетиной, он крепко смахивал на уголовника. Им можно было бы пугать детей, а Мордохай о них заботился, взывал каждое утро к гражданской совести сонливых родителей, и те покорно плелись на его зов. Небритым молочник Мордохай пребывал вечно не по лености или неряшливости, а потому, что у него было по меньшей мере сорок тысяч братьев и прочих родственников. Они имели обыкновение умирать, и, как человек верующий, он всякий раз держал траур, хотя многих из них никогда не видел при жизни в лицо и не знал по имени.
Через четверть часа Георгий был на городском пляже. Ему удалось незамеченным проскользнуть в раздевалку, и, снимая одежду, он обозревал в щель ту часть пляжа, которая его интересовала, ту, что была по левую руку, если стоять лицом к морю. Там собирались обычно в этот ранний час завсегдатаи – местная знать средней руки, лучшие люди сезона, их-то Георгий и боялся и не хотел бы с ними встретиться. Сегодня было человек тридцать: несколько профессоров из университета и институтов, пяток начальников трестов, в том числе и начальник треста Горстрой Прушьянц – вон он играет в шахматы с доктором философии Февралем Мамедовым. Может быть, для философа имя Февраль и не вполне подходящее, но играть с ним в шахматы Прушьянцу надо – как-никак Февраль заведует кафедрой, а у Прушьянца дочь через несколько дней оканчивает школу. А вон и помощник шефа Аркадий Семенович – «метр с кепкой», как зовет его Али-Баба. А где же Толстяк? Толстяка что-то не видно; наверное, соскочил – сказал жене, что пойдет на пляж, а сам – к «девочкам». «Метр с кепкой» подходит к турнику, сейчас будет крутить «солнце» – это его коронный номер. Оглядывается, чтобы кто-нибудь подсадил. К нему подбегает директор местного телевидения Феликс – угрюмый коренастый брюнет, с лысиной необыкновенно круглой формы, как будто ее очертили циркулем. Феликс всегда был в руководителях, даже в детском саду ему было доверено следить, чтобы младшие не вставали с горшков раньше времени. Он лет на семь старше Георгия, и о нем всегда говорили, что Феликс «пойдет, как танк», но вот что-то не пошел, забуксовал на телевидении. Да и это место досталось ему по случаю выдающегося ума предшественника, отставного полковника пожарной охраны Толубаева, который прославился в городе тем, что, будучи назначен директором студии телевидения, обратился к властям с проектом пошива брезентового чехла на телемачту. А еще раньше, в интервью о пожарной охране города тому же местному телевидению, Толубаев сказал: «Сейчас хорошо, дома панельные, стекло, бетон, железо – начинка горить, а дом остается!» Толубаева пришлось убирать в срочном порядке. Тут и подвернулся застоявшийся на молодежной работе Феликс. Оп-ля! – вот он уже подсадил «метра с кепкой», тот ухватился крепенько своими коротенькими ручками за перекладину – и – р-ра-аз! и – д-д-ва-а! – и завертелся.