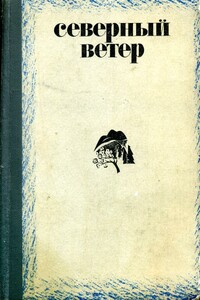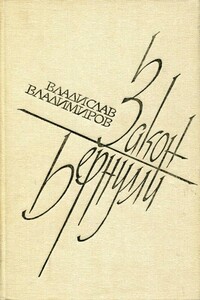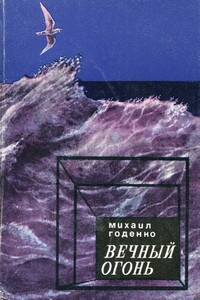Письма к сыну | страница 56
— А ну-ко ты, Витя? Может, послушает.
И действительно, я пошептал ей что-то на ухо, погладил лоб — и она поднялась. Мать ликует:
— Ой сын, мой сынок! Да как бы я без тебя?!
А я молчу, только щеки мои пылают. Видно, дорого стоит мамина похвала.
А дело уж к вечеру, но нам не страшно — ветер дует теперь в спину, да и дрова наши напилены и уже увязаны. Одно плохо — мороз прибавился. К ночи он всегда злится, играет. Но мы пока его не боимся. Правда, мешает усталость. У Маньки из ноздрей уже идет слабый парок, который сразу же образует сосульки. Время от времени мы их убираем, и тогда корова останавливается и благодарно вытягивает шею. Она ждет продолжения ласки, внимания, но маме это не нравится, и она кричит на нее: «Ну что ты, кляча, остановилась! Скоро уж ночь…» Но Манька ни с места. И тогда мама начинает упрашивать: «А ну давай, Манюшка, давай выручай… А если споткнешься, то уж больше не встанешь. И нас завалит снегом — и до весны нас не хватятся…» И теперь корова ей подчиняется и опять шагает, шагает, и наши сани опять вверх-вниз по сугробам. Ветер теперь стал слабее, и снег убавился, зато мороз действовал по-хозяйски. Мое пальтишко смерзлось в один комок и при ходьбе звенит как стеклянное. Если по нему стукнуть палкой, оно разлетелось бы на куски. Да и мать тоже замерзла. На коленки она намотала какие-то тряпки — теплого белья у ней не было. Но какой толк в этих тряпках — мороз перебирает все косточки. Я вижу, что каждый шаг ей дается уже с усилием. Шагнет — и тело бросит куда-то в сторону. Мне кажется — мать вот-вот упадет. Но упала не она, а Манька. Я даже не видел, как это случилось. В тот момент я шел сзади саней и вроде бы задремал. Помню, хорошо помню: ноги как будто шагают, а тело стоит на месте. И вдруг запнулся о сани. Но вначале не понял и вздрогнул:
— Мама, где мы?
— Все там же, сынок. А корова у нас погибает…
— Почему?
— А потому… Съездили, глядишь, за дровами.
Мать наклонилась над Манькой и стала гладить у ней меж рогов. Корова не шевелилась, только глаза были живые — ресницы моргали. Она лежала на снегу боком: ноги, видно, увязли в сугробе, и корова упала. А подняться уж не было сил… Я тоже наклонился над ней и, помню, закричал радостным голосом:
— Мама, мама! Она ведь дышит!
— Да кого уж сынок. Ты же видишь — пластом лежит… — Она сохватала ее за шею, заголосила.
— Мама, не надо…
— А что надо-то? Ты скажи мне, скажи, что надо?! — Она заголосила еще сильнее. Шаль на ней развязалась, размотались концы. Одна щека на лице побелела. Я кинулся оттирать щеку варежкой, а мать как будто пришла в себя. Хоть голос теперь спокойный: