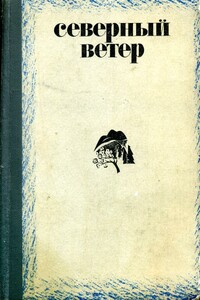Письма к сыну | страница 22
А вот Володя Фомин совсем был другой. Всегда веселый, отзывчивый, самый остроумный, наверно, мальчишка в нашей Утятке. И трудолюбивый — на зависть! Но все ж была у Володи одна тайная страсть — он больше жизни любил наши леса и озера, нашу реку и покосы, и… свои саженцы под окном. Потому, наверно, и написал о садах в том заветном журнале: «Лебедь — птица редкая в наших краях. Такие люди, как мой дедушка, тоже редкие. Всю жизнь он поднимает на нашей земле сады. Во всех ближних деревнях яблони — от Никиты Фомина. Степь весной белая-белая — это яблони набирают цвет. И цвет этот стоит сплошной белой стеной, точно лебеди, пролетая, опустились отдохнуть. Теперь уж нет с нами дедушки, но память о нем никогда не угаснет в нашем селе…» Так писал Володя, и я верю каждому его слову.
А вот Коля Ловыгин написал в тот журнал о себе: «После школы я останусь в колхозе. Полям нужны молодые руки, без нас осиротеет земля…» Я вспомнил об этом, и мне сразу же стало грустно, даже печально. А печально — от Колиных слов. Ведь и сам-то я тоже порой изменяю своей Утятке. Иногда по целым месяцам не бываю в родных местах. Отвлекают какие-то срочные дела и заботы. А если подумать, то что же в них срочного? Просто суета, обыкновенная суета… Я подхожу к окну и отодвигаю штору. В той стороне, где море, дрожит длинный спокойный луч — наверно, прожектор. Ну конечно, это он медленно, почти вкрадчиво движется по волнам. То ли выискивает кого-то, а может быть, охраняет. В этом движении есть что-то таинственное и неземное. И тайна притягивает, обволакивает, забирая меня в свой долгий дремучий плен, а в голове бездумье и тишина… А ведь я знаю, что на море сейчас шторм, гуляет ветер и толчет воду, а во мне — тишина, и как это хорошо, как покойно — будто каким-то чудом я оказался в родной Утятке, и как будто день сейчас, а не темная ночь, и как будто солнце бьет прямо в глаза… Да, сын, как будто белый день стоит над моей деревней, и только кое-где над темными крышами вьется к небу черно-сизый дымок, и он — как дыхание. Это ожили баньки, день-то, наверно, субботний… Как хорошо, что это снова привиделось, и душа моя замирает и отдыхает — и мне снова спокойно, легко… Но вот уж гаснет, потихоньку ускользает прожектор, но в глазах у меня все равно не гаснет этот светлый огонь — моя улица и мои дома. Мне никогда, наверное, не забыть их. Никогда!.. Я приезжаю сюда в самые трудные дни и в самые счастливые. Она мне все время снится ночами — моя деревня, моя пристань, надежда. И я берегу эти сны, охраняю, как самое дорогое. И какие это сны, какие картины! То встанет моя улица в белых пенных черемухах, а то опустится в меня вся в холодных белых снегах. И вот уж я бреду по этому чистому, белому, а в глазах у меня — десятки людей. И я вглядываюсь в них, узнаю, поражаюсь — а ведь это все знакомые мои, деревенские. Среди них и родные, и соседи по улице, и лицо моей дорогой учительницы Варвары Степановны, а чуть выше, над головами у них, лицо моего отца — деревенского учителя Потанина Федора Степановича. Оно совсем юное, почти детское: глаза раскрыты широко и смеются. На нем слепящая белая рубашка и узенький галстук, похожий на длинный шнурок… И эта рубашка так оттеняла его густые черные волосы. Про такие говорят — они черны, как смолка…