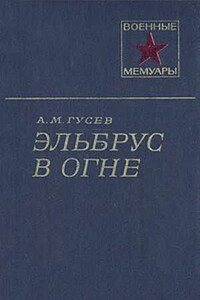Без риска остаться живыми | страница 22
— Так точно.
— Можешь идти.
И опять отвернулся, нагнулся над картой, давая понять, что и без того потерял из-за ерунды прорву времени.
Кулемин ушел к себе, написал официальный приказ лейтенанту Пименову на взятие «языка», и отослал его со связным. Сам лег вздремнуть, велев разбудить немедленно, как только прибудут сведения от любой из групп.
Сон не шел. Кулемин думал о полковнике, сначала с обидой, которая ослепляла и заслоняла собою все, потом он сказал себе: «Не злись, а постарайся понять этого человека. Ну ладно, у него комплексы. Где-нибудь прежде обжегся на горячем, теперь на холодное дует. К тому же — педант… Или просто у человека судьба не сложилась, и он в обиде на весь белый свет?.. Наконец, у него элементарно недостает культуры… и недостает ума, чтобы или примириться с этим, или постараться наверстать упущенное, что-то выправить… Впрочем, полковник, кажется, из тех людей, что упорствуют на своих недостатках, пытаются выставить их, как достоинства; во всяком случае, ищут этому если не оправдания, так аргументы. Ну конечно же, как я этого сразу не понял! — думал Кулемин. — Полковник из тех неинтеллигентных людей, которые, по роду своей деятельности постоянно соприкасаясь с людьми интеллигентными, чтобы не чувствовать себя хоть в чем-то ниже их, каждым своим жестом, каждым словом демонстрируют презрение к „этому ненужному и даже вредному балласту“, к „этим буржуйским штучкам“, к „этому запудриванию мозгов“. Физический труд, земля и машина учат проще и верней, истинней, — эта философия не нова. И популярна среди ленивых умом людей. Но ведь еще Маркс об этом говорил, и Ленин… где ж Ленин писал об этом? — попытался вспомнить Кулемин, и вспомнил почти сразу. Ну конечно же, в „Что делать?“ Ильич писал, что идеи сами не приходят к человеку, что физический труд воспитывает в человеке не философа, а раба с психологией мещанина. Не буквально так, но очень близкими к этим словами. Жаль! — был бы я дома сейчас, встал бы от стола, подошел к стеллажу, выбрал бы нужный том, сейчас уже и не помню, какой, — то ли второй, то ли третий, — и через минуту нашел бы это место»…
Ему стало так радостно от неожиданно нахлынувшей из прошлого уверенности в своих интеллектуальных силах, в своих знаниях, что он забыл неприятный разговор, и вообще о полковнике перестал помнить. Впервые за всю эту долгую и тяжелую войну он подумал о своем будущем — и вдруг понял, что к Ренессансу, пожалуй, больше не возвратится. К чему он придет, чем займется — этого Кулемин пока не знал, да и рано было решать; даже загадывать рано. Но с Ренессансом покончено, сказал он себе, прислушался к себе — и не услышал в душе не только отзвука, даже боли не услышал. Значит, давно уже отмерла пуповина, а я лишь сегодня осознал. Но это жило во мне давно, думал он, и когда я на огорчение своим старикам вдруг прервал научную карьеру и пошел в военное училище, потому что война была уже не на горизонте, она стояла на пороге, и я не желал быть наблюдателем и сознательно в этот час испытаний слил свою судьбу с судьбой своего народа, — вот почему этот разрыв с кабинетно-музейной учёностью (конечно же, я был уверен тогда, что это временная мера) достался мне так легко. Ну что ж, я всегда старался понять себя и быть верным себе, не мешать себе, и вот еще раз жизнь подтвердила мою правоту…