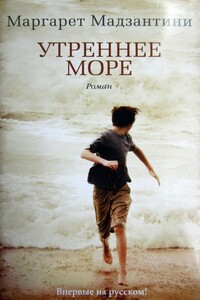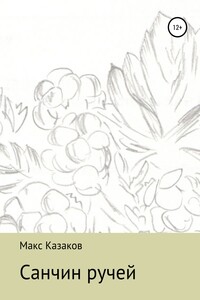Сияние | страница 74
На Костантино был серый костюм c отливом, галстук в мелкую крапинку и рубашка с высоким воротником, плотно обтягивающим шею. Ему было тридцать лет. Кажется, он немного возмужал, но в остальном не изменился. Те же складки у губ, та же улыбка. Горячие губы, ровные белые зубы. Он даже похорошел. Его черты вроде бы стали четче, все в нем дышало внутренним покоем и социальной определенностью, даже самодовольством. Я с горечью подумал, что он в самом расцвете сил.
Я снял пиджак. Худенькие плечи, усталое лицо. Есть мне совсем не хотелось, кроме того, я довольно долго шел пешком, чтобы не брать такси. На столе рядом с Костантино лежал новенький мобильник. Я повертел его в руке, и мы немного пошутили на тему новых технологий. Я вдруг осознал, что теперь он, пожалуй, куда богаче меня.
Джованни потянул вилку в рот. Костантино аккуратно отнял ее и поцеловал сына. Потом посмотрел на меня:
– Красивый мальчик, правда?
– Да, очень красивый.
– Похож на меня?
– Нет.
Мы рассмеялись. Дня не проходило, чтобы я не вспоминал о нем. Где-то внутри, в потаенном уголке души. Сколько раз я мысленно возвращался в прошлое, в тот день, когда мы расстались. Я ослабил галстук, расстегнул рубашку. Пот лил градом. Я сидел за столом рядом с ним. Кто знает, что он обо мне думает! Лондонский профессор вдруг превратился в жалкого пьяницу, корпящего над бесполезными книжками и ежедневно дрочащего с закрытыми глазами в надежде хотя бы кончить без боли. Я прикрылся руками и сжал ноги, чтобы не выдать своего возбуждения, болезненного и постыдного.
Отец снял пиджак и кружил с ним вокруг невесты, как тореадор с красной тряпкой вокруг быка.
Костантино ослабил галстук.
Это было мое последнее воспоминание о нем: оголенная шея, завораживающий знакомый жест. Я завязал галстук и поднял с пола сумку:
– Мне пора.
Он попытался меня удержать, привстал. Но сын потянул его вниз.
– Гвидо, погоди!
Я бросил взгляд вглубь зала, где неподвижно сидели мои тетя и дядя – две гипсовые фигуры в нелепых старомодных одеждах, прикрывающих такие же старомодные сердца. Должно быть, в следующий раз я приеду в Италию на их похороны. И увижу их такими же, какой была мама: застывшими и одинокими. Я поднял глаза к потолочному небу, на котором висели огромные люстры, и снова подумал о ней. Смотрит ли она с небес, видит ли сейчас эту ненасытную безликую толпу.
В Лондоне я чувствовал себя как в гробу. На улице шел дождь. Я стучал зонтиком по мостовой, втискивался в автобус, свешивался с подножки. Ни дать ни взять волк, ожидающий, когда взойдет луна, чтобы наконец-то завыть. День я проводил в университете, где наивные подростки ждали от меня пламенных лекций и пылких речей, поскольку молодой итальянский лектор – это тоже своего рода театральное амплуа. Я читал лекции об Антонио дель Поллайоло и Паоло Уччелло. Никогда еще мои лекции не были так вдохновенны! Вечером я отделывался от коллег, игнорируя приглашения в теплые, пропахшие свежими пижамами дома, и в то же время избегал одиноких мужчин, презиравших домашний уют и после работы отправлявшихся в бар, чтобы надраться.