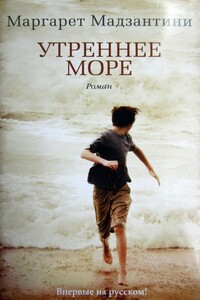Сияние | страница 144
Потом вернулся в комнату, чтобы одеться. И увидел, что Костантино не сдвинулся с места. Он стоял у окна, обнаженный, повернувшись спиной, и тоже смотрел во двор.
– Ты что здесь делаешь?
Он передернул плечами, стряхнул в окно пепел, улыбнулся:
– Ты стал импотентом.
– Видимо, да.
– Из-за меня?
– Видимо, да.
– Все «видимо», все «видимо», Гвидо…
Он лег на пол. Так он лежал, на спине, погруженный в темноту, – красивое мертвое животное.
– Ты не уходишь?
– Хочешь, чтобы я ушел?
Он вытянул руки вперед, сложил из пальцев две фигурки, похожие на каких-то зверьков. На потолке в круге света от единственной лампы запрыгали тени. Он говорил разными голосами, писклявым и детским, хриплым и напряженным, и шевелил пальцами, изображая диалог:
– Привет, как дела?
– Я очень устал.
– От чего?
– Оттого, что моя жизнь – дерьмо.
– Что случилось?
– Меня все обижают.
– Но ведь есть же кто-то, кто тебя любит?
– Не знаю, любит ли он меня.
– Так спроси…
Он подполз ко мне и обхватил меня за ноги:
– Иди сюда, Гвидо…
Я опустился на пол рядом с ним. Он залился злым, прерывистым плачем, который вырывался из той же пропасти, откуда минутой раньше раздавались стоны наслаждения.
– Ты любишь меня?
Он вытянул руку и снова стал изображать животных. Одна из теней как будто прихрамывала.
– Я не знаю, кто ты.
– Я Костантино.
– Что еще за Костантино?
– Это я.
– Назови свой род и вид.
– Человек. Человекус травмикус.
– Назови свой род и вид.
– Мужчина. Мужчина и гей.
– Это и есть твоя травма?
– О да.
– Это не травма и не болезнь. Это я. Гвидо.
Наши руки коснулись друг друга. Звери стали единым целым, тени слились в поцелуе, пальцы переплелись. Мы оделись. Спустились по лестнице, прошли по двору.
Река все так же несла свои воды. Здесь ничего не изменилось. Центр казался нетронутым, он пустовал, как часто бывает посреди рабочего летнего дня, когда жизнь в самом зените. Когда радость, боль, симпатия и неприязнь – словом, все находится в идеальной гармонии с линией горизонта.
—
Ленни еще спала, прикрыв голову руками, ее грязные беспокойные ноги торчали из-под простыни. Я склонился над старой кроватью, прислушиваясь, как спит моя девочка, подобрал с пола камеру. Она сняла меня перед Пантеоном, когда я рассказывал о Ромуле, которого подхватил орел. На следующем кадре я вложил ладонь в Уста Истины. Я включил камеру и стал снимать комнату, прекрасное тело Ленни, разбросанные вещи. Потом осторожно приоткрыл ее личико, повернув его к своему измученному лицу.