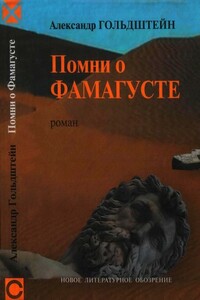Спокойные поля | страница 75
Яков Абрамович Сатуновский,
эти прекрасные стихи не ответ. Они ответ лишь в том неприложимо непреложном смысле, в каком отвечают такие — и не такие, а эти — стихи. Не ответ в моем нынешнем положении, когда… Что «когда»? Что за увертливый синтаксис? Почему они прямо, как всего-ничего с год назад, не называют диагноз? Миндальничают? Остерегаются повторений? Тревожась вконец извести твою скособоченно хилую бледность? Да бросьте, ей-богу, я вас умоляю, им самим не все ясно. В томографически просветляемой, скальпелем пощаженной средней доле правого легкого кое-что завелось или заводится, но идентично ль тому, что было в нижней, отрезанной доле, тут мы пока что воздержимся, конфузится врач. На всякий пожарный, советует доктор — он советует не по-русски, а на языке этого места, как почти все его доктора, кроме медбратьев и медсестер, но песня знакома — пройдите на всякий пожарный опережающий курсик, с ущербом, кто спорит, для головного покрова, ну так походите в кепке, не дамочек чаровать интересной разбитостью членов. И ты выбегаешь из кабинета в другой кабинет, чей владелец (о, как тебе повезло!) склоняется к невмешательству наблюдения.
Отчего-то же ты колыму перечитываешь, пуще неволи охота с растравительным расковыриванием. Не стоит прикидываться, изображая наитие. Ответ был продуман заранее, до написания текста, вынуждающего, по мере того как записывается, блюсти этикет, тянуть бечеву вопросительно-утвердительных предложений, на бумаге (экране) иначе как постепенно, под стрекотливое тиканье, не разматываемых. Ангел медлит с отменою времени, и надеяться все трудней, хотя торопиться не надо. Неминуемо каждому в его срок, вот в чем штука, не сразу для всех. А было бы справедливей, отключив, насколько позволят, часовой механизм, и ответ и вопрос напечатать не один за другим, с промежутком в минуту ли, в пять, в два часа или в целую ночь, если читатель уснул, но друг с другом вместе, как в мандате, поглощающей сроки, как в талмудическом тексте на краях с четырех сторон спрашивают, а центр, обрамленный вопрошанием, единовременно отвечает. Тогда ответ звался бы Блонский Олег. Имя ему Олег Блонский.
Я мальчишка студент, он обманчиво взрослый в городе южных мужчин: двадцать шесть — двадцать семь, двадцать семь — двадцать восемь несолидной наружности. Осень, юг или юго-восток на асфальтовом променаде, текущем в приморский проспект, перетекший в приморский бульвар, у кованых черных ворот во двор его дома. Пять этажей, поставленных пленными немцами во дворе, где мощные тополя и платаны мощной сенью своей осеняют скамейки, крикливый, заплеванный шелухою футбол, кружевную беседку, старушечье гарканье, захмелевших солдатиков — розовые, портвешок зарумянил, носы из подъезда, животных у ржавой тары для мусора, начинающего вдруг возгораться, вонюче дымить и куриться из прозы тридцатых, повывелись в парусиновых брюках, в крепдешиновых платьях, с тех и с этих пор столько лет. Каурые годы, гнедые. Чалые, потный круп и задышка. Растрепаны на ветру. Охолонув под струею из крана. Все равно, если столько с тех пор. Мы прошли этот лес, итд. Олег, мы прошли?