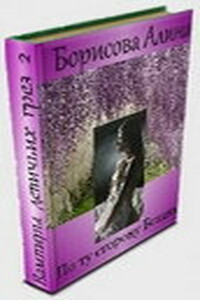За синими горами | страница 44
Сколько ей было — три, пять? Я совершенно не разбиралась в детях, тем более вампирских, и определить ее возраст на глаз для меня было непосильно. Очень маленькая. Но без милой младенческой неуклюжести, ее движения точны и уверенны, уж качаться-то она явно давно умеет… А вот эти качели, похоже, видит впервые. Наверное, именно их ей сегодня и подарили. И она все качается, качается…
А потом вдруг оборачивается и смотрит прямо на меня. Глаза огромные, синие-синие, словно подсвеченные изнутри тем восторгом, что ее сейчас переполняет.
— Смотри, что я здесь могу, — произносит негромко и отпускает руки. Взлетает, кувыркается в воздухе, стремительно проносится сквозь все еще раскачивающиеся качели и, смеясь, улетает прочь, скрываясь за деревьями.
— Яся! — запоздало кричу ей вслед, желая что-то спросить. Но она улетела, незаданный вопрос забылся, а я просыпаюсь, все в том же саду, все так же одна.
И я забыла бы и весь этот сон — нехитрую конструкцию из рассказов Лоу и его же внешности, перенесенной на маленькую девочку, — если бы не одна единственная деталь. На шее у созданного моим подсознанием ребенка висела маленькая костяная птичка. Моя птичка.
И я долго сижу под любимым кедром, пытаясь понять — к чему мне снилось все это? Быть может, к тому, что когда-то и я умела летать? Пусть не как вампир, пусть во снах, но я летала, преград не ведая. И потому, даже оставаясь одна, не была одинока.
А летала я… да, лишь пока на шее у Анхена висела птичка. На шее того, кому я была дорога. На шее того, кто мне (несмотря ни на что) был дорог.
А потом он снял ее… я сняла ее с него… и больше мне сны не снились. Те, особенные, в которых ты помнишь, что это сон, а потому волен лететь, куда пожелаешь. А птичка… Птичка осталась у меня, я привезла ее в этот дом, но никогда не надевала. Анхен не любил это маленькое древнее украшение. Считал проводником злого коэрского колдовства, хмурился при ее виде, вновь ругая Лоу и его на меня влияние. И я убрала ее в дальний ящик бельевого шкафа, закатила куда-то к самой стенке, чтоб и случайно на глаза не попалась, чтобы не вспоминать, и не напоминать любимому, не провоцировать его раздражение. Хотелось мира в семье, хотелось отказаться от всего, что мешает…
«Древо мое — белая береза, душа моя — летящий лебедь», — вновь вспомнилась вычитанная у Лоу строчка. Прилипчивая.
А древо мое… Как знать, может, что-то все же есть, какая-то связь между мною и этим деревом, доридэ не стал бы выдумывать… И древо мое — хоть и не береза — посылает мне знак, что птичка — важна, что это тот дар, от которого не отказываются, что без него не взлететь…