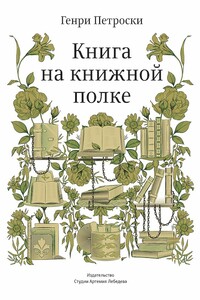Знание-сила, 2001 № 05 (887) | страница 103
Горела Москва, грозный шум погромов и разбоя перемежался криками и стонами, начались расправы и казни, громадное пожарише сопровождало их всю дорогу в Кострому, далеко видно было мощное пламя… Но главное свое богатство – детей – она спасла. Старшему было одиннадцать, а младшему не было и лвух недель.
Но и дальше – каким потрясением для нее было узнать, что это ее родные братья хитростью и обманом добились того, что ордынцы сожгли Москву, а жителей поубивали или забрали в плен! И что вряд ли бы они остановили меч, занесенный над ней и ее детьми. Скорее наоборот, чтобы досадить Донскому.
А ему оставалось совсем немного – 19 мая 1389 года Евдокия овдовела. Он не дожил до своего сорокалетия – с девяти лет без родителей, жизнь в битвах, походах, как мы бы сейчас сказали, бесконечных стрессах не могла длиться долго. Летописи не говорят, отчего умер Донской, он умер внезапно, однако существует предположение, что от сердечной болезни; и это вполне возможно – был он тучен, а учитывая колоссальные физические и нервные нагрузки, вполне логично предположить, что сердце не выдержало.
В Московском летописном своде под 1389 годом подробно описаны и жизненный путь великого князя Дмитрия Донского, и его смерть. Особое же место в этих записях занимает плач вдовы Евдокии, очень образный и эмоциональный: «Камо зайде, свете очию моею. Где отходиши, съкровище живота (жизни. – Прим. автора) моего… Цвете мой прекрасный, по что рано увядаеши». Средневековые летописцы умели составлять подобные плачи по умершим, но не так много случаев, когда их вкладывали в уста княгинь-вдов.
Однако здесь случай особый. За три дня до его смерти Евдокия родила последнего ребенка, сына Константина. Опять беда настигала ее в минуту слабости и страха. Это был двенадцатый ребенок, княгиня была немолода и слишком миниатюрна и хрупка для столь частых родов. Она еще не пришла в себя, не встала на ноги, и такое горе обрушилось на нее. Она теряла не просто героя-воина, защитника Руси, но своего героя, мужа и защитника. И оставалась одна. Ее плач, ее страдание понятны нам и сегодня.
В захоронении великой княгини Евдокии сохранился ее монастырский пояс, украшенный тиснеными изображениями двунадесятых праздников с надписями к ним. Кожа, тиснение. Начало XV века
В своей духовной грамоте, завещании, великий князь говорит о значительных земельных владениях, которыми обладает княгиня Евдокия, – о ней его последние мысли. Земли эти отдаются в ее полную юрисдикцию, даже суд на этих территориях осуществляют ее специальные чиновники – «волостели». Вольна была великая княгиня покупать новые земельные участки, продавать землю, деревни и села, завещать свое достояние детям или делать вклады в монастыри на помин души своих близких: «а в тех примыслех волна моя кнегини, сыну ли которому даст, по души ли даст. А дети мои в то не вступаются».