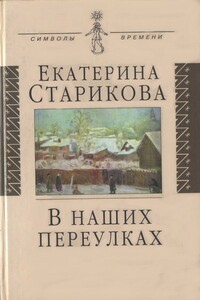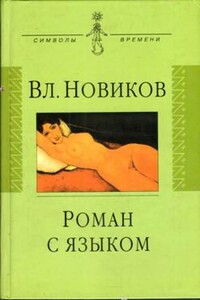Достопамятный год моей жизни | страница 60
Эти слова имели до того близкое отношение к моему настоящему положению, что я едва мог встать и уйти в избу, где горько заплакал. Этот добрый старик изображал, быть может, собою участь, меня ожидающую; быть может, когда-нибудь, лишенный рассудка, я также буду спрашивать у проезжающих писем из Ревеля; уже теперь могу я вместе с ним воскликнуть: «Милая голубка, где-то ты теперь? в Петербурге, Риге или Ревеле?» Никогда в жизни не испытывал я подобной грусти. Образ этого старика никогда не изгладится из моей памяти; он представляется мне и наяву и во сне; он не покидает меня.
Запрягли лошадей, а я не переставал рыдать. Спутники мои, видя, что я не допил молока, не понимали, что со мною делается; я не хотел сказать им о том, что происходило в моей душе; они стали бы надо мною смеяться. Стыжусь даже признаться, что, расставаясь со стариком, я дал ему немного денег: человек, который около тридцати пяти лет только и думал, что о своем семействе, был человек необыкновенный; деньгами нельзя было облегчить его страдания, поэтому он принял их от меня с равнодушием и даже не поблагодарил; я чувствовал, что краснею от стыда и, закрыв лицо руками, ушел. Вот чем ознаменовался мой въезд в Сибирь; до самого Тобольска не мог я забыть этого неприятного для меня приключения. Иртыш и Тобол сильно разлились и затопили всю местность мили на четыре кругом; мы должны были оставить карету, сложить все наши вещи в небольшую лодку и продолжать путешествие водою. День был очень теплый; мы плыли довольно скоро; спутники мои захрапели, и я на свободе отдался вполне томительному беспокойству относительно того, оканчивается ли теперь мое путешествие или нет.
Часа через три я увидел Тобольск, в расстоянии полумили. Город этот расположен на берегу Иртыша; колокольни придавали ему великолепный вид, особенно в той его части, которая называется цитаделью и где обращает на себя внимание дом губернатора; но так как город незадолго перед тем частью выгорел, то кажется красивым и обширным лишь издали. Теперь только был я в состоянии оценить все различие между грубою, но доброю душою Александра Шульгина и страшною жестокостью варвара Щекотихина. Последний, проснувшись, предался самой непристойной радости; он шутил, смеялся без малейшей деликатности, обязывающей иметь уважение к несчастному существу. Мне казалось, что я вижу в нем палача, который, отрубив голову, принимает самодовольный вид и радуется своей ловкости. Курьер же напротив, спокойный и грустный, зная, что приближается время, когда участь моя будет решена, по временам поглядывал на меня украдкою с состраданием и жалостью.