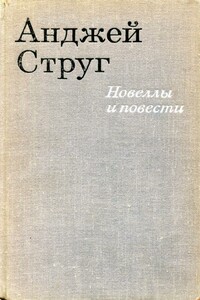Том 4. Карусель; Тройка, семёрка, туз…; Маршал сломанной собаки | страница 118
Тогда начинают слипаться твои глаза для спасительного забытья, и ты проваливаешься в него с облегчением, но просыпаешься вдруг, не зная, сколько утекло времени от очередной твоей ночи, ты будишь тихо спящую жену, она, все понимая, тянется к тебе неслышно, неслышно, неслышно навстречу, и ты смелеешь от ровного дыхания детей, от мерзкого храпа Гинды Гершевны, кажущегося в этот миг удивительно благозвучным и необходимым, и впиваешься губами в губы жены, чтобы заглушить ее и свое дыхание, и какое-то подобие того, что должно быть на самом деле у двух любящих друг друга людей, происходит наконец жарко, обидно быстро, не наполняя до сладостного избытка тело и душу.
И так, Наум, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год ты приносишь свою плоть, свою любовь и радость в извращенную, уродливую жертву тому, что кто-то называет строительством коммунизма.
Приносил не один ты, приносили несколько поколений людей, брошенных якобы простыми и скромными, как Ленин, чертями в плюгавую скверну коммунального ада. Сами черти с самого начала жили во дворцах, особняках, виллах и отдельных квартирах.
Хрен с ними. Вернемся к Розенцвейгу. Приходит он в палату из парка, где испортил половое веселье пожилым парочкам (он сам мне все это рассказал), проверяет, не спряталась ли какая-нибудь бабешка к мужику под одеяло, ложится в кровать, довольный проделанной общественной работой, заменявшей, как он теперь понял, естественные отношения с женщиной, и просыпается ночью оттого, что чья-то рука крепко-крепко сжимает все его хозяйство (член и яички) и чьи-то пышущие жаром губы закрывают его рот, готовый уже было к ужасному воплю. Почувствовав, вернее, поняв, что рядом женщина (это было полбеды), а не мужчина (такое случалось в домах отдыха), Розенцвейг попытался высвободить свое хозяйство, дергаясь и извиваясь, но почему-то не поднимая при этом шума. Однако он не высвободился, но начал испытывать впервые в жизни удивительное ощущение стука сердца в приласканном нежной рукой женщины, в невинном своем и немолодом уже члене.
– Пожалуйста, отпустите меня, гражданка, – попросил он настойчивым шепотом, и незнакомая женщина положила его дрожащую руку себе на грудь и сжала его пальцами сосок, страстно давая понять, как это следует обычно делать, а поскольку уж отпала надобность пленять хозяйство Розенцвейга, она крепко обеими руками обняла борца с дурными нравами, впилась ему в губы губами, втянула в себя его язык, долго надкусывала и облизывала, как леденец. Розенцвейг забылся и вслепую, непостижимо для себя, потянулся свободной рукою к тому, что с готовностью и нетерпением отверзалось перед ним, и ему казалось, что, перестав дышать от перехватившего горло волнения, он тем не менее чудесным образом дышит, но не грудью, а всеми открывшимися порами тела, которое блаженно покалывали тысячи мурашек, тысячи лопающихся на коже пузырьков воздуха… Она шептала ему на ухо: