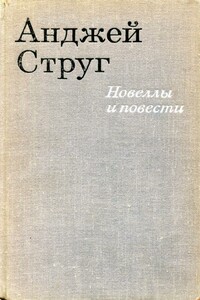Том 4. Карусель; Тройка, семёрка, туз…; Маршал сломанной собаки | страница 117
Наконец все легли. Потушен свет. Из коридора (хотя дверь обита двойным слоем войлока) доносится скандал на тему «Кто загадил уборную» и что после гостей следует мыть полы в прихожей. Слева за стеной сосед чинит детям ботинки и орет после каждого удара молотка: «Почему, сволочи и сукины дети, на вас горит обувь?» За другой стеной день рождения вашего дворника. Он татарин, но все поют «Сулико», потому что запретить петь хором любимую песню товарища Сталина не имеет права даже мелкий работник органов, занимающий, однако, две комнаты сразу. Ты, Наум, уже привык не обращать внимания на «Сулико», на вопли из коридора, бесконечное рычание и журчание воды в сортирном бачке, ты лежишь наконец в темноте коммунального вечера, рядом со своей желаннейшей женой, и в занавешенные окна вашего бедного пристанища не залетает желтый свет уличных фонарей… не залетает… не залетает… не залетает. Дети еще хихикают перед сном и ворочаются, твоя теща – бессмертная Гинда Гершевна – настырно полощет в серебряной кружечке челюсти, будь он проклят, этот зубовный звон, а ты уже медленно, нежно и неслышно поглаживаешь грудь, живот и любимые бедра Цили, чуть не сглатывая слезы обиды на враждебно тянущееся время и сперто дыша. И вот уже, черт бы их побрал, все затихли, на шум в квартире тебе плевать, ты, стараясь двигаться невесомо, как космонавт в космосе, залезаешь в заветную минуточку на Цилю (извини, что я так фигурально выражаюсь), обнимаешь ее за плечи (мы с Верой так обожали) и… не стоит, в общем, говорить, что ты переживаешь. Это очень понятно всем людям, за редкими исключениями, не стоит говорить, Наум, о не худших в нашей единственной жизни переживаниях, как вдруг эта скотина Сол или этот мерзавец Джо злобно шипят:
– Сколько ворочаться!
– Заснуть нельзя!
Лил с тебя, Наум, в такие минуты пот стыда и ненависти к собственным твоим детям? Отговаривался ты нелепо перед детьми, готовый убить тещу за всепонимающее, похабное молчание? Ты слезал с Цили после ее раздражительного щипка в живот? Ты лежал с открытыми глазами в кромешной тьме на собственной тахте, распятый чудовищной зависимостью перед коммунальной судьбой и проклиная неведомую силу, обрекшую твою плоть и плоть жены на два печальных одиночества, проклиная и чувствуя, как от таких немыслимых, нечеловеческих неудобств и полной оставленности охладевает постепенно твое естество, а Циля приникает лицом к твоему лицу, и по нему скатывается ее горькая слезинка.