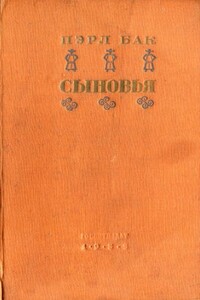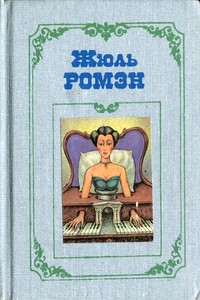Дитя волн | страница 32
Или же, огорченный скудностью форм и бедностью цветовой гаммы леса, высокого леса без окон и дверей, он принимался рассматривать небо. Так рассматривают старинный, готовый рассыпаться документ, который почти невозможно расшифровать.
«У меня столько времени – куда спешить?» – размышлял Рани.
Если оказаться там, наверху, за тревожным мраком неба, что услышишь: тихое мяуканье, биенье сердца человека, затерявшегося среди деревьев? Как распознать дорогу в небо, где нет ни «право», ни «лево», ни «раньше», ни «потом», одна лишь бездна? И нет поводыря, и нет опоры, есть – головокружение, потеря чувств…
Что мечтал найти он в камешках, упавших с неба, в валунах, лежавших на земле? Что вызывало в нем желание вскрыть себе живот, дабы узнать тайну собственного тела?
«Стану ли я когда-нибудь не столь уродлив, как сейчас?»
Да, именно этот вопрос толкал Рани на поиски, и он лишь удивлялся, почему не понял сути раньше. Будто его собственные руки так ничего и не сказали ему, когда он ощупывал и ощупывал изуродованное лицо.
Он полюбил змей – свиваясь и распрямляясь, они полагались только на себя и всегда держали наготове в пасти смерть.
Рани захотелось увидеть свое племя. Прячась в чаще, он умел оставаться невидимым даже для чужаков, скрывать блеск глаз и запах кожи – то, чем мы всегда невольно выдаем себя. Устроившись в темном травяном логове, он наблюдал за костром, который люди разожгли, чтобы отпугивать диких зверей, и думал: «Сегодня огонь разводил Гули-Я, узнаю его манеру. Но что мне до того?»
Наблюдая передвижения соплеменников, готовящихся ко сну, размышлял: «Что вы хотите от меня, люди моего бывшего племени? Жирные или худые мужчины, женские груди, животы, ноги, что вы хотите от меня? Зачем воплощаетесь в различные формы – вы, ставшие для меня сейчас не более чем тошнотворными воспоминаниями?»
И он обкрадывал своих бывших соплеменников, чтобы сделать приношения деревьям и камням, всему, что не было осквернено произнесенным словом. Однажды ночью, замаскировав лицо лианами и листьями, он проник в палатку Яры, чтобы похитить ее зеркало. Другой ночью, пьяный от чичи,[2] он решил опоить дерево, которое любил больше других, а потом, устыдившись, пожертвовал дереву два собственных пальца, которые сам же и откусил.
Когда кровь остановилась, Рани стал лучше понимать, что с ним происходит: «Выходит, до сих пор я не был таким уж уродом!»
Он рассматривал свою изувеченную руку, сравнивал ее с другой, которая теперь казалась ему очень красивой. Забыв об охранительном запрете глядеть на собственное отражение, он подолгу изучал себя в зеркальце, украденном у Яры, в безжалостном свете близкого костра. И понял: лицо осталось таким же, каким оно запечатлелось в глазах ужаснувшихся соплеменников.