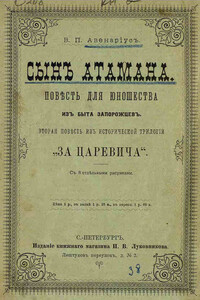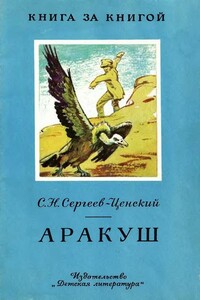На Москву! | страница 32
— У нас, на Запорожье, признаться, на это не так строго смотрят…
— То на Запорожье, а моя совесть иная. Разве сам ты, Петрусь, не понимаешь, что предательство подло?
— Понимаю, милый княже, как не понять?.. Ох, ох! Ну, что ж, нечего, значит, об этом и толковать. А как же нам быть с Трошкой? Ведь он ждет от тебя ответа Марье Гордеевне.
— Да какой же ей ответ?
— Ну, хоть спасибо, что ли, сказать ей за добрую память.
— Пускай, конечно, скажет… Дай Бог ей всякого благополучия…
— И только?
— А то еще что же?
— Она тебя не забыла присылкой, так и ты бы в отплату чем-нибудь ее уважил. Зачем обижать?
В Курбском происходила видимая борьба.
— Есть у меня, пожалуй, образок Андрея Первозванного… — начал он с запинкой.
— Из Святой Земли?
— Из самого Иерусалима. Привезли его оттуда еще моему покойному родителю (царствие ему небесное!), и он до кончины своей с ним не расставался. С тех пор я ношу его и никогда еще не снимал с себя.
— Знамо, снимать его уже не приходится.
— И не снял бы до своей смерти. Но перед вчерашним боем нашла на меня вдруг такая смертная тоска, что на поди. Либо царевичу, либо мне самому, думал, несдобровать.
— Тебя ведь и ранили…
— Какая ж это рана? Так, царапина. А на душе у меня и доселе не полегчало. Чую я беду неизбывную.
Одному Богу ведомо, что меня еще ждет. Всякий день ведь может быть опять смертный бой, и в жизни своей никто из нас не волен. Так вот, на случай, что мне не суждено вернуться с поля битвы, возьми-ка ты, Петрусь, на хранение мой образок…
При этих словах Курбский снял с себя маленький старинный образок и, набожно поцеловав, вручил его своему казачку.
— У тебя он сохраннее, — продолжал он. — Умру, так перешлешь его через своего Трошку Марье Гордеевне: может, он принесет ей счастья…
— Нет, княже, — объявил Петрусь, — никому в руки, окромя самой Марьи Гордеевны, я его не отдам. Не нонче — завтра Басманов, хошь не хошь, отворит царевичу ворота замка…
— Ну, и ладно. Тогда сам ты разыщешь там Биркиных. А до времени, смотри, береги мой образок…
— Как зеницу ока. Будь покоен, милый княже. Точно теперь все счеты его с этим миром были сведены, прежнее состояние глухого раздраженья сменилось у Курбского почти полной апатией. Свои служебные обязанности он, правда, исполнял до вечера с обычной аккуратностью; а когда царевич, заметив его усталый, убитый вид, уволил его до утра, он заглянул на всякий случай еще в лазарет, после чего уже возвратился к себе. Здесь, к некоторому его удивлению, было совсем темно, тогда как расторопный Петрусь встречал его обыкновенно еще на пороге с зажженной свечой.