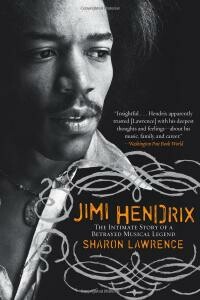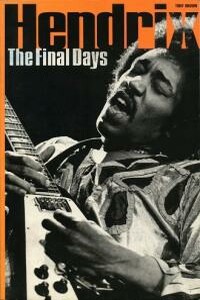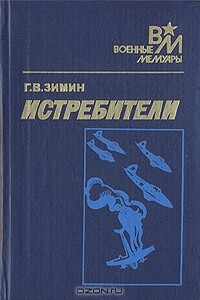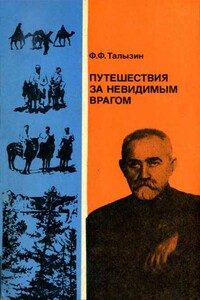Васил Левский | страница 18
— Ну, а турки?
— Известно! Собрали утром с жителей денег на дорогу и отправились дальше. Кто их накажет?!.
Смерть очередной жертвы дикого произвола взбудоражила село. Вспомнились прежние обиды. Уже не таясь, во всеуслышание говорили о нетерпимости такой жизни.
— Проезжал на днях бегликчия [9] со своей сворой. Вызвал старосту и говорит: «Мы проживем здесь несколько дней. Найди для нас самое лучшее жилище. Пусть туда придут самые красивые девушки и молодые женщины. Они должны быть здоровыми и веселыми, иначе как же мы будем веселиться в этом, грязном селе». Уехал бегликчия, приехал юшурджия [10]. И этот потребовал лучшее жилище и самых красивых женщин, которые подносили бы ему кофе и чубук. Мало его, кровопийцу, накормить, надо еще дать для его жены цыплят, масло, сыр, свечи, рис, дрова, угля. А попробуй отказать — изобьет.
— Что же, так и будем безотказно давать? Про нас, живущих в селах у больших дорог, и так говорят, что турки у нас даже уши съели, — вскипел молодой крестьянин. — Кого мы только даром не кормим, кого только не ублажаем! Все, кому не лень, лезут в наши дома, жрут, пьют, глумятся. Кто же мы: люди или скот бессловесный?
Селяне взглянули на говорившего, но ничего не ответили. Слышалось лишь покряхтывание да глубокие вздохи.
— Таков порядок. Не мы его установили, не нам, должно быть, суждено его сломать, — после долгого замешательства сказал согбенный тяготами жизни человек. По виду трудно было определить его возраст. Волосы еще черные, а по лицу будто много раз беспорядочно прошла соха, оставив борозды, резкие и кривые.
— А кто же за нас будет ломать? — послышался все тот же беспокойный голос.
— Да уж и не знаю кто. Я пробовал, вот оно, — и человек распахнул рубаху на груди. Все увидели впалую, иссохшую грудь с двумя глубокими шрамами. — Вот оно, — сказал он еще раз и тяжело закашлялся.
— Прости, бай Тодор. Видит бог, не хотел я тебя обидеть, — смущенно проговорил только что горячившийся селянин.
— Да я на тебя не в обиде. Разве я против? Сил только у меня уже нет. А терпеть разве ж можно? Не можно, говорю я вам, братцы. Не мо-ж-ж-но!
В доме наступило тревожное молчание. Слова «не мо-ж-ж-но», вытолкнутые из больной. груди изувеченного человека, продолжали звучать, как набат. Глаза у людей горели, но воля... У одних она была сломлена, у других еще не проснулась.
Монах, желая внести успокоение в взволнованные души, привычным бесстрастным тоном протянул:
— Иисус терпел и нам велел.