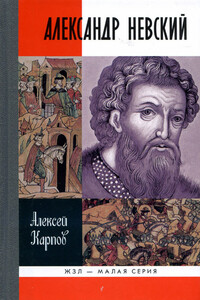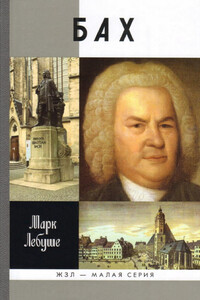Театр теней | страница 11
Постепенно я стал слышать тишину. Рискнул пошевелиться — вроде живой и нигде не больно, открыл глаза. Все пялились на меня, как на ожившего Лазаря. Уманского не было.
Просунулись в дверь санитары с носилками.
— Кто тут раненый?
Я шагнул им навстречу — и вдруг отказали ноги. Носилки пригодились, даже одеться мне было затруднительно. А вечером, прямо из санчасти, меня выкликнули на этап в Центральные мастерские…
Вертухай толчком локтя оборвал воспоминания:
— Кончай, артист, кемарить!
Заскрежетали тормоза; паровоз, гриппозно дыша, остановился. На вагончике, утопленном днищем в снег, керосиновый фонарь высвечивал название станции: «Умар».
Поодаль стояли сани-розвальни, было слышно, как возчик шлепает рукавицами о бушлат, согревается.
— Откуда? — спросил я, когда мы с конвойным уселись.
— Где подох Иуда, — в рифму ответил возчик. — С Двадцатки. Жить стало лучше, мать вашу в гроб, жить стало веселее! Умар в Темлаге был, как для страны Колыма, — дальше некуда, люди говорили про эти места угрюмо. А 20-м лагпунктом грозили, пугая ослушников: попадешь — пропадешь, специальный, двойного назначения: штрафной и для венериков.
Если отбросы общества не поддаются перековке, их уничтожают.
Был бы у меня дар провидца, я бы угадал в Двадцатке грядущее — то, что предстоит народу ГУЛАГа в скором времени и на долгие годы.
20-й лагпункт — проба пера, черновая репетиция. Бьют еще от случая к случаю, но каждый, кому не лень, толкает — кулаком, ногой, тычком приклада: сплошная пихня. Еще бреют наголо только лобки, (когда за пределами лагеря задерживают личность, не внушающую доверия, первый приказ: расстегни штаны! В бараке на полтораста персон нон грата — одна хлипкая печурка: звонят подъем, а не отдерешь голову от нар, волосы примерзли. Нары — помост из горбыля, матрацы только у старосты и двух-трех его корешей. Вошь грызет поедом; не солдатская, которая сперва шлет разведку, а лагерная, атакующая всем фронтом сразу. Норма в лесу — 14 кубиков на пилу: выполнить ее невозможно; стало быть, пайка граммов в триста — пятьсот и миска магары или сечки…
Можно без конца длить монолог о том, как людей делают нелюдью. Доходягами. Как на брошенный из кухни рыбий скелет воющей толпой бесноватых кидаются бывшие профессора и ударники-гегемоны, взломщики сейфов и трамвайные щипачи, кулаки и комбедовцы… Но об этом уже поведали те, чья лагерная доля была куда тяжелей и длительнее моей, кому талант определил пахать глубже и видеть шире. Меня когда-то одарил дружбой Варлам Шаламов, человек с дергающимися, как в пляске святого Витта, руками, с жестоким сердцем пацана и дервиша и непроницаемыми глазами гения, познавшего ад.