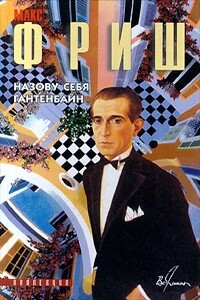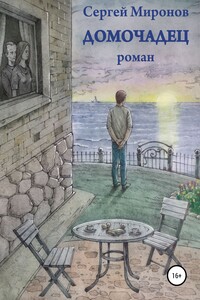Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн | страница 33
Наш единственный шанс: «лэндровер»!
Целыми днями он стоял перед гостиницей…
Но хозяин, как я уже говорил, не мог без него обойтись.
Только после захода солнца (точнее, солнце здесь не заходит, а постепенно пропадает в мареве) становилось немного прохладней, хотя бы настолько, что можно было болтать всякий вздор. О будущем немецкой сигары, например! Я считал, что наше путешествие и вообще все это — курам на смех. Бунт туземцев! В это я не верил ни одной минуты. Для этого здешние индейцы слишком мягки, миролюбивы, чуть ли не ребячливы. Вечерами они молча сидят на корточках в своих белых соломенных шляпах прямо на земле, недвижимо, словно грибы, не испытывая даже потребности зажечь огонь. Они вполне довольствуются тем светом, который получают от солнца и луны, — какой-то немужественный народ, они неприветливы, но при этом совершенно безобидны.
Герберт спросил, что же я в таком случае думаю.
— Ничего!
— Что же нам делать? — спросил он.
— Принять душ…
Я принимал душ с утра до вечера; я ненавижу пот, потому что из-за него чувствуешь себя больным (я в жизни не болел, если не считать кори). Я думаю, Герберт нашел, что это не по-товарищески — вообще ничего не думать, но было просто слишком жарко, чтобы что-нибудь думать, или тогда уже думалось невесть что — как Герберту.
— Пошли в кино, — сказал я.
Герберт всерьез поверил, что в Паленке, где были одни только индейские хижины, есть кино, и пришел в ярость, когда я рассмеялся.
Дождя так ни разу и не было.
Каждую ночь полыхали зарницы — это было наше единственное развлечение; в Паленке есть, правда, движок, а значит, и электричество, но в 21.00 его выключают, так что вдруг погружаешься в темень. Ночь, джунгли, а ты висишь себе и видишь только вспышки зарниц, голубоватые, как свет кварцевой лампы, да красные светлячки, потом всходит луна, но она всегда затянута дымкой; звезд вообще не видно, для этого здесь слишком много испарений. Иоахим не пишет просто потому, что слишком жарко, я это могу понять; он висит в своем гамаке, как мы, и зевает; либо он умер; тут думать нечего, считал я, надо только ждать, пока мы раздобудем «джип», чтобы переехать границу и узнать, в чем дело.
Герберт наорал на меня:
— «Джип»! Да где его взять?
Вскоре раздался его храп.
Как только движок переставал работать, обычно наступала тишина; лошадь паслась при свете луны, в том же загоне беззвучно щипала траву косуля, поодаль копошилась черная свинья, индюк, не выносивший зарниц, пронзительно кричал; он растревожил гусей, и они загоготали — поднялся переполох, потом снова воцарилась тишина, вспыхивали зарницы над плоской равниной — лишь пасущуюся лошадь было слышно всю ночь.