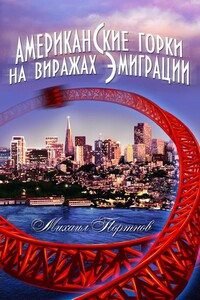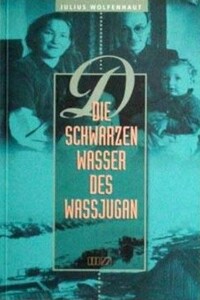Туманян | страница 49
Туманяну удивительным образом удалось найти в родной речи такие слова, которые верно передают не только образную систему подлинника, но и легкость, изящество, мудрую простоту и музыкальность русского образца.
В этой связи нужно особо отметить также перевод стихотворения Кольцова «Раздумье селянина». Туманян в переводе стихотворения Кольцова нашел возможным строку «Сяду я за стол да подумаю» заменить другой: «Сяду у стены да подумаю», потому что обычное место размышлений и тяжелых дум бедного армянского селянина не у стола, а у стены своей землянки.
Такую замену Туманян допустил не только потому, что' хотел свой перевод сделать понятным и близким широкому армянскому читателю, но и потому, что он не придерживался принципа внешне формальной точности. Он не ставил перед собою задачу передать русское стихотворение слово в слово, рабски подчиняясь оригиналу. Туманян заботился лишь о том, чтобы в переводе мысль стихотворения Кольцова была передана с максимальной ясностью и точностью.
Туманян полюбил русских поэтов не меньше, чем своих предшественников в армянской поэзии. Более того, он искренне признавался, что в известном смысле Пушкин и Лермонтов оказались ему значительно ближе. «Я нашел, что русские поэты, — писал Туманян в 1902 году, — главным образом Пушкин и Лермонтов, всегда казались мне более родными и близкими».
Туманян был бесконечно влюблен в природу родного края, которой он был обязан лучшими минутами своего существования. По собственному признанию «любовь к горам и тоска по жизни в горах» всегда жили в его душе. В поэзии Пушкина и Лермонтова он нашел неповторимые пейзажи Кавказа. Он с восторгом цитировал замечательные строки Лермонтова:
(«Измаил-бей»)
(Посвящение к поэме «Демон»)
Г. Р. Державин и В. А. Жуковский, которым не пришлось побывать на Кавказе, лишь силою поэтического воображения впервые в русской поэзии создали величественные романтические картины кавказской природы. Вслед за ними обратились к Кавказу Пушкин и Лермонтов, в поэтическом сознании которых далекая горная страна стала «родиной вольности простой».