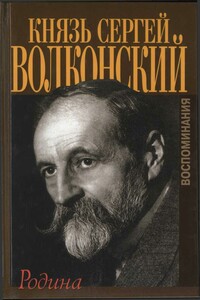Мои воспоминания. Часть 1 | страница 87
Повелением Александра III итальянская опера была упразднена, Большой театр был передан русской опере[1]: публике не было другого выбора. Вряд ли есть много примеров в истории искусств, чтобы мера внешняя, чисто механическая, оказала такое внутреннее влияние. Выдвинутая на первое место, лишенная соревнования, русская опера в несколько лет выросла до степени самостоятельной ценности. Александр III сам не очень чувствовал новую русскую музыку; о его отношении к Римскому-Корсакову имел случай говорить в другом месте (См.: «Родина», гл. «Сферы»). Ни Римский-Корсаков, ни Бородин, ни Мусоргский в царской семье не пользовались любовью. Помню, в бытность директором императорских театров я говорил о предстоящем первом представлении «Садко», великий князь Алексей Александрович воскликнул: «Ну неужели вы можете выносить это? Разве это музыка: вечное дзынь-бум-бум!» И так судило большинство оперных «меломанов». Русская музыка была далека, чужда, до нее надо было дорасти. Тут явился мост от старого к новому. Явился Чайковский.
Не сразу и он завоевал. Он прошел сперва путем камерных и симфонических концертов. В Петербурге всегда была большая разница в музыкальном уровне «симфонической» и «оперной» публики. Первые были по природе музыканты, для вторых музыка была лишь приятным, легким придатком театральных впечатлений; они искренно умилялись от какой-нибудь арии Джильды и совершенно не ощущали анданте Пятой симфонии. Этих людей Чайковский завоевал своими романсами. Судьба послала ему дивную, восхитительную исполнительницу. В полном блеске своего голоса и в расцвете своей красоты, Александра Валериановна Панаева раскрывала совершенно не испытанные еще глубины русской песни и русского стиха. «Средь шумного бала», «Отчего?», «Страшная минута», «Ни слова, о друг мой», «И больно и сладко» — да можно ли перечислить все, чем она потрясала, все, что окутывала дымкою своего пианиссимо, что распаляла огнем своего вдохновения… Петербургские гостиные были покорены. Однако театр он не скоро завоевал. Первые его оперы были тяжелы: «Опричник», «Мазепа», «Орлеанская дева» не имели успеха. Чайковский встал и упрочился после «Евгения Онегина». Эта маленькая опера, по замыслу автора, кажется, не предназначавшаяся для большой сцены, а в мое директорство справлявшая свое сотое представление, так полюбилась публике, что, можно сказать, она собой покрыла всего Чайковского; за исключением «Пиковок дамы» и балетов, все прочее в глазах наших оперных любителей имеет лишь ценность отражения. Для большой публики Чайковский всегда останется автором «Онегина».