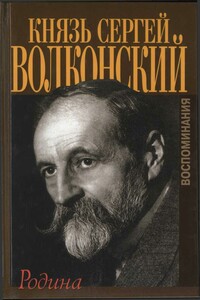Мои воспоминания. Часть 1 | страница 86
Под влиянием увлечения личным элементом в опере создалась какая-то музыкальная психопатия. Раек галдел и после представления бежал на подъезд. Артисты, падкие на рукоплескания, прибегали к разным приемам и ухваткам дурного вкуса. Удивительнейший из теноров, Мазини, голос которого нельзя забыть, когда раз его слышал, так преподносил некоторые свои ноты, что его хотелось по щекам бить за неуважение к музыке и выдвигание своей особы. Это был, что называется, «сапожник», без всякого уважения к общему делу, занятый исключительно личным своим успехом. В «Риголетто» последнюю свою арию «La donna е mobile» он пел восхитительно. Он выходил на сцену, держа в руке письмо, рвал его и вместе с нотками песни бросал кусочки бумаги в воздух. После третьего куплета разражался гром в зале и неистовые крики «Бии-ис!». Что же он делал? Он запускал руку в карман, вытаскивал новое письмо и опять его рвал, и опять разбрасывал клочки…
На таких приемах и в такой атмосфере шло оперное воспитание того поколения. Но самое зловредное было не в этом, а в том, что люди были музыкально оторваны от родной почвы. Для них эта итальянщина была вершиной, с которой они ничего другого не видели. Более того, они не ощущали, совершенно не ощущали русской музыки. В то время выдвигались Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский, а они не могли понять этой музыки. И удивительно было не то, что она была им непонятна, а то, что она им была чужда, она не отвечала их природе. Меня больше всего поражало, как эти люди не чувствовали того, что в этой музыке есть русского. Ведь Римский-Корсаков — это сама поющая русская земля. И они были глухи; им была ближе какая-нибудь «Линда ди Шамуни», чем «Снегурочка». Не только непонимание — Римский-Корсаков и Бородин вызывали смех, глумление, не говорю уже о Мусоргском. Я был на первом представлении «Бориса Годунова»: опера провалилась среди свиста и смеха… Ее не спас даже такой Борис, как Мельников…
Тогдашнее положение оперного дела в России (скажем: в Петербурге и Москве, будет ближе к действительности) хорошо обрисовано в маленькой книжечке, которая вряд ли известна современным людям: «La musique en Russie» Ц.А.Кюи. Она издана в восьмидесятых годах, кажется, в Брюсселе и уже давно составляет библиографическую редкость. Со свойственной перу этого композитора едкостью он рисует и пагубную ложь тогдашних музыкально-общественных увлечений, и унизительное положение, в которое была поставлена русская опера. Впрочем, надо и то сказать, что состав наших русских певцов был очень низкого уровня. В длинном промежутке времени от Глинки до Чайковского кого можно назвать? В то время как итальянская сцена давала созвездия неослабного блеска, на русской сцене за это время можно назвать только несколько имен, как Петров, создатель роли Сусанина, Лавровская, одно из величайших контральто, Мельников, редкий певец и редкий художник. Остальное было печально. В том спектакле «Нижегородцев», о котором упомянул, пела некая Платонова: она подвывала. Тенор Никольский, с великолепным голосом, толстый, неповоротливый, совершенный ломовой извозчик. Был несколько позднее другой тенор, по имени Васильев 3-й, это был гнусавый дьячок. Допевал в то время старик Стравинский, известный в свое время бас, — у него не было уже звука, пустые вспышки, как в продырявленной шарманке. Но самый главный недостаток русских певцов — они не были мастера, в них не было той нарядности, которая является результатом поборотой трудности, в них не было той легкости, которой требовал от всякого художника Леонардо да Винчи, когда говорил: «Пусть труд будет замаскирован». Они были тяжеловесны, неуклюжи, и таковы были и русские оперные спектакли — в Мариинском театре было скучно, туда не ездили. Дело возрождения русской оперы было трудно. Нужно было и ее самое улучшить, и надо было публику приучить ездить туда, куда она не ездила.