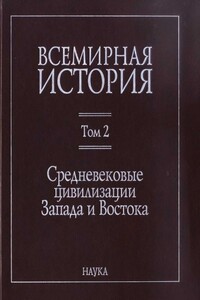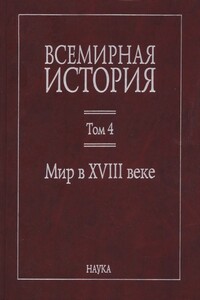Мир в раннее Новое время | страница 55
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
Историки политических учреждений в Европе XVI–XVII вв. говорят о существовании в это время так называемых «составных монархий» (англ, composite monarchy), причем это словосочетание может обозначать две разные вещи: 1) государство, в котором политическую роль играют несколько сословий, в большинстве случаев это та же сословно-представительная монархия (например, в Англии); 2) государство, состоящее из разных народов, фактически почти синоним империи (Габсбургская, Османская). В Средние века, уже ближе к их закату, власть монарха стала ограничиваться сословнопредставительными учреждениями, где собирались, как правило, депутаты от дворянства, духовенства, горожан, реже — свободных крестьян. Государи были вынуждены созывать эти собрания, например Генеральные Штаты во
Франции, чтобы объявлять войну и утверждать необходимое для этого взимание налогов. Существование таких учреждений имело для правителей и некую политическую выгоду: они могли опереться на них, апеллируя к защите общегосударственных интересов в борьбе со своевольными магнатами и сепаратизмом. Подобные органы, не обязательно сословного характера, имелись не только в Западной Европе, в частности монгольские курултаи или Земские соборы в России. Относительно последних в историографии идут споры, насколько можно говорить об их сословно-представительном характере, хотя в период, близкий к Смутному времени, такие функции, связанные с необходимостью выбирать кандидатов на царский трон, явно присутствовали.
В названных учреждениях видят прообраз будущей «демократии», но на заре Нового времени эти ростки парламентаризма парадоксальным образом ущемляются в пользу абсолютной власти монархов, парадокс здесь в том, что путь от средневекового сословного представительства к буржуазной республике лежит через ничем по сути не ограниченный суверенитет единоличного государя. Марксистская социология объясняла этот феномен неустойчивым равновесием политического влияния двух классов — дворянства и буржуазии, но сегодня хотелось бы подчеркнуть, во-первых, причудливость исторического существования и развития общественных институтов, эта причудливость не вписывается в схемы, нанизывающие все жизненные сферы на один стержень, а во-вторых, тот факт, что абсолютизм явился определенным венцом государственного строительства и развития политического сознания, в котором общее благо стало отождествляться с персоной государя, но государя — не столько верховного собственника страны и подданных, сколько главного слуги Левиафана (выражение Т. Гоббса), главы государственной машины