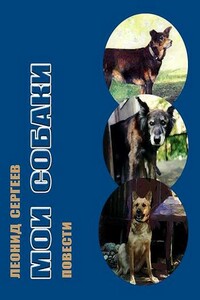Она (Новая японская проза) | страница 51
Ладно, думаю, не будем ворошить прошлое. А у самой руки трясутся, пылесос ходуном ходит. Откуда-то из желудка ком такой черный к горлу подступает.
— Что с тобой?
Оборачиваюсь — стоит. Увидел мое лицо, голову в плечи вжал и попятился.
Я молча тычу на шкаф.
— Не понял.
— Ах, ты не понял?! — говорю. — А кто там на фотографиях, не ты?
Тут до него наконец доходит.
— Да ладно тебе, — говорит. — Откопала старье какое-то. — Подходит, обнимает за плечи, усаживает на диван. Да еще улыбается, гад. Снимает с полки толстую книгу. «Жизнь Джона Леннона». Листает, показывает. Те самые фотографии, только уменьшенные.
— Это же Джон и Йоко, дурочка. Не узнала? Фотографии-то знаменитые. Приятель-фотограф увеличил и подарил.
Теперь сама вижу. Плачу и смеюсь одновременно. Диафрагма дрожит, трудно дышать. Вместе со слезами вытекают все силы, Мягчею. Но какой-то осадок все же остается.
— Неужели я так похож на Леннона?
— Конечно, было темновато. Но что-то общее есть. — Я уже просто смеялась, без слез. Жюли тоже хохотал в голос, что с ним случается нечасто. Глаза только не смеялись. И, боюсь, у меня тоже.
Вечер воскресенья. Возвращаюсь домой, к папику. Садимся как ни в чем не бывало за стол. Тот из нас, кто больше устал за день, закатывает обычную истерику. Второй терпеливо ждет, пока буря пронесется. Такой примерно расклад.
Раньше мы с папиком иногда за целый день слова друг другу не скажем, и ничего, все нормально. Это я уже потом поняла, что, когда можешь спокойно молчать, это здорово. Когда же началась эпопея с Жюли, воскресный ужин превратился в муку: каждая пауза давила на психику. Даже во рту пересыхало. Спасибо, пиво выручало. А как слегка поддам, язык развяжется, сразу начинаю нести то, чего не следует. Например, спрашиваю:
— Все ворон лепишь?
У папика обычай такой: когда не в духе, ваяет нечто воронообразное. Это у него называется «абстрактный образ в полуконкретной кристаллизации». Но похожи эти образы, как их ни поверни, на каких-то облезлых ворон.
Папик берет легкую хандру и лепит из нее черного жалкого вороненка. Большие творческие кризисы превращаются в здоровенную мраморную ворону а-ля Генри Мур. Когда папика бросила мамочка, он сварил из колючей проволоки свирепое пернатое в человеческий рост — в стиле Джакометти. Все дело в том, что студентом, страдая от несчастной любви, папик часами просиживал на берегу пруда и смотрел на ворон, стаями собиравшихся на голых ветках. И с тех пор заразился вороньей болезнью на всю жизнь.