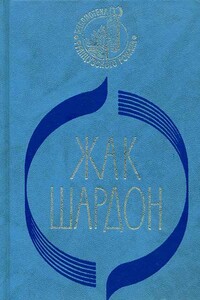Силоам | страница 108
Симон весь вечер думал об этой необычной сцене. С приближением дремоты она скоро стала похожей на сон… Но не один только мертвый голос Лау шептал имя Ариадны — это был голос всех, кто окружал Симона и жил от него в нескольких шагах, в комнатах, совершенно похожих на его собственную. Это имя доносилось из каждой комнаты, из каждого кубического ящика, пристроенного к фасаду: Ариадна… Симон хотел бы пойти проведать Лау, к которому его вдруг толкнуло неясное движение симпатии. Но надпись на двери по-прежнему запрещала посещения, и он знал, что сестра Сен-Гилэр не замедлит вмешаться. Впрочем, единственное слово, произнесенное Лау, смутило его. Это слово что-то меняло в его жизни. Он чувствовал, что больше не был наедине с Ариадной: теперь, когда у девушки появилось имя, он чувствовал, что время их уединенности кончилось. Отныне каждый раз, когда Ариадна пройдет по лугу, он будет знать, что Лау здесь, он будет видеть это длинное худое тело, опершееся на перегородку. И не только Лау, но и остальных. Засыпая, он будто видел их всех — стоящими у окон, у деревянных перегородок, глядящими на нее. Она шла через луг наискосок, медленной походкой, с пылающими на солнце волосами — и Симону снилось, что земля была теперь всего лишь огромным лугом, из глубины которого шла девушка…
Теперь перед его глазами создавалось некое мифическое лицо: он был не единственным его автором, это лицо возникло не из его снов, а из всех разрозненных грез вокруг него, и разрушило предшествующий ему образ. Это лицо присутствовало в словах Жерома, Массюба, по-прежнему злонамеренного и саркастического; оно складывалось из мельчайших частиц, отрывавшихся от него самого, чтобы объединиться в глубине калейдоскопа, где каждый день что-нибудь менялось, но главные черты оставались неизменными и постоянно были готовы появиться. Симон уже и не сознавал, что служит убежищем этому лицу; он просто вбирал исходящее от него излучение. Эти лучи не были жесткими. Они завладевали минутами и заставляли их течь незаметно. Они заполняли пустоту, которая не ощущалась до их появления. Симон не думал о девушке: он всего лишь получал этот ежедневный дар, проистекающий из невидимого, но равномерного и неиссякаемого источника. Иногда это был робкий, далекий намек, наполнявший тем не менее эфир новой драгоценной волной. Не услышать его было невозможно. Но этот намек звучал не только в высказанных словах: он заключался и в той форме, которую принимали поступки других. Они составляли нечто вроде негатива, который нужно было проявить; в них были сглаженные углы, пробелы, пустоты, содержавшие в себе призыв. Это был Жером, приходивший позже, чем обещал, или уходивший сразу после прихода, вдруг вспомнив о «кое-каких делах» — о покупке марок, посещении товарища… Симону было неловко видеть, как он прибегает к этим школьным уловкам; он понимал, что Жером приходит к нему, уже готовый уйти, с блеском в глазах, как у человека, которым властвует желание…