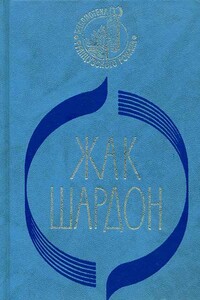Силоам | страница 102
— А он часто ссорится?
— Так же часто, как заводит дружбу до гроба.
Симон задумался и посмотрел на Крамера, с высокомерным видом встряхивавшего своим чубом. От этого жеста выпячивалась его широкая мускулистая грудь, и Симон понял, почему Великий Бастард так презирал больных.
Молодой человек, в свою очередь, поднялся на площадочку весов. Его вес не изменился. Он был разочарован. Вспомнил слова доктора: «Хороший курс лечения, хороший курс…» Эти слова казались ему все более загадочными… Он оделся и вышел, чтобы подождать Жерома. Но за дверью снова нарвался на Массюба, который, согнувшись вдвое, молотил по воздуху тощими руками в неизящном и преувеличенном усилии натянуть свой цветастый халат. Это могло бы быть смешно, но Массюб не смешил. Он вдруг выпрямился, словно его укололи, и вонзил в Симона из-за очков в никелевой оправе тусклый и недоверчивый взгляд, которым он рассматривал всех, словно его окружали одни враги. Он, казалось, всегда был готов отпустить язвительное словцо. Но удовольствовался тем, что спросил у Симона, что нового, с видом мнимой заинтересованности.
— Стационарно, — сказал Симон небрежно.
Массюб засмеялся, или, точнее, издал скрип, заменявший ему смех.
— Это смешно? — спросил озадаченный Симон.
— Ну и физиономия у вас! — выговорил Массюб каркающим голосом. И добавил вульгарным тоном: — Трудно произнести слово «станционарно», а?.. И все же это так и есть! Обрыв Арменаз и есть станция (он говорил «стэнция»), для всех станция!.. Даже запасной пусть!.. Пусть здесь все доведено до совершенства, от картошки до весов, — это все липкое!.. Знаете, мальчик, надо будет вам найти какое-нибудь времяпрэвэждение, если не хотите подохнуть со скуки, — закончил он с двусмысленным видом.
Симону захотелось ответить ему так же бойко, но он почувствовал, что Массюб этим воспользуется, чтобы ударить с другого бока. Так что он удержался и предоставил ему бороться с поясом халата, большие цветы которого заняли свое место на его животе и плечах. Но Симону все меньше и меньше хотелось смеяться. Он испытывал к Массюбу нечто вроде гадливости вперемешку с необъяснимой притягательностью. Можно было думать о нем, что угодно, — Массюб не был заурядным. Помимо того, что тот скрывал под, впрочем, отточенным жаргоном некоторую культуру, Симон чувствовал, что он наделен опасной проницательностью, позволяющей ему в любом случае выбрать самые неприятные для своих собеседников слова. Каждое его слово могло отыскать и поразить самое чувствительное место, и можно было быть уверенным, что он не предоставит другому сообщить вам плохую новость… Массюб, закончив одеваться, остался стоять у входа в коридор и перевел разговор на врачей, о которых говорил в нелицеприятных выражениях. Затем он произнес имя Минни, а за ним назвал еще двух-трех женщин, говоря о них еще грубее. Симон понимал, что Массюб был по призванию вечным критиком и отрицателем, что он был из тех, кто находит удовольствие в разрушении. Этот вывод его опечалил. Он не привык смотреть на людей в этом несколько унизительном для них свете. Он еще верил в талант, честь, медицину, в добродетель многих женщин. Его общая позиция в жизни была до сих пор, в целом, доверительной. Ему не доставило бы радости узнать, что он ошибался, и Симону становилось не по себе в обществе этого насмешника, говорившего громко и обращавшего на себя внимание. Поэтому ему не терпелось, чтобы пришел Жером и избавил его от этого Массюба, все так же стоявшего перед ним, неизвестно зачем, насмехаясь, скользя по всем проходящим нескромным быстрым взглядом. Жером, наконец, вышел, но, к удивлению Симона, едва приостановился и помчался на лестницу. Симон вновь оказался лицом к лицу с Массюбом — застывшим, жестким, злобным, с неподвижным взглядом. Они стояли друг против друга, по-дурацки, сближенные тем, что для одного было удивлением, а для другого — горечью ясновидения. Молчание нарушил Массюб. Он уже изменил выражение лица и вновь перешел на ледяной тон.