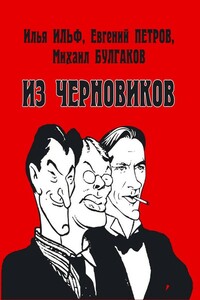История советской фантастики | страница 57
Другая, полярная (но еще более скептическая), точка зрения распространилась в среде столичной интеллигенции и сводилась к тому, что, поскольку и при Сталине газеты врали о космосе, то теперь тем более врут, и что ни спутников, ни полета Гагарина в 1961 году на самом деле просто не было — мол, все это не более, чем пропаганда. Отголосок таких настроений можно найти в написанном в начале 60-х романе А.Солженицына «В круге первом», в разговоре Рубина с Нержиным. («Какая-такая Луна? — приметливо усмехнулся в бороду Рубин. — Вечно ты выдумываешь, Глебушка. Как, скажи на милость, можно к Луне слетать, если нет в природе никакой Луны, да и не было никогда?» «А что же нам, Лева, в окошко светит?» — с любопытством спросил Нержин. «А тарелка жестяная с лампочкой нам светит, — тотчас же с готовностью отозвался Рубин, словно ждал этого вопроса. — Подвешенная в небе по приказу товарища Абакумова лично. Чтобы сексоту с кумом по ночам встречаться веселее было…»)
В новой непривычной атмосфере видные «официальные» фантасты из кургузовской Секции чувствовали себя тоже не очень уютно. Зато, уже с середины 50-х, вне всяких согласовании с Кургузовым, появились вдруг иные фантасты, с Секцией совершенно не связанные и не изъявляющие особого желания в нее поскорее вступить. Для подопечных Кургузова самой распространенной формой давно стал многотомный роман-эпопея (в 2-х, 3-х, а еще лучше — в 5 томах). Новички вступали в фантастику с иными формами — коротким романом, повестью, рассказом или даже небольшой двухактной пьесой.
«Первыми ласточками» стали рассказ Даниила Гранина «Собственное мнение» и компактный роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», опубликованные в 1956 году в «Новом мире» уже отнюдь не при Твардовском, а в пору редакторства куда более осторожного и «политичного» Симонова.
Рассказ Гранина представлял собой, может быть, литературно не очень яркий, но сюжетно нетрадиционный для той поры спор с концепцией «производственной фантастики», вполне в духе всячески осужденной и разоблаченной статьи Померанцева. Автор был на самом деле искренен, сопоставляя двух ученых — конструкторов новейшего ракетного двигателя Ольховского и Минаева. Директор НИИ Космических Исследований «консерватор» Минаев выглядел отнюдь не монстром. В глубине души он вполне соглашался с техническими идеями своего подчиненного-«новатора» («Ольховский убедительно доказывал неэкономичность новых двигателей конструкции академика Строева…»). Но, будучи еще и Ответственным Лицом, Минаев не имел права его поддерживать. «Политика» для директора перевешивала и истину, и человеческое расположение, и сознание собственной неправоты. Даже проскользнувшее было страшноватое видение пассажирского космического корабля, застрявшего в пустоте из-за обещанных сбоев в строевских двигателях, — и то не могло повлиять на Минаева. Плюгавый инструктор горкома Локтев, административное ничтожество, по сюжету имел право решать за него, академика Минаева, а тот обречен был ничем не проявлять «собственного мнения». В финале рассказа окончательно делалось ясно, что «положительный» Ольховский никогда не выиграет поединок. Гранин дерзко спорил с «лакировочной» фантастикой, в которой если конфликты и выходили за пределы спора лучшего с хорошим, то все равно в финале добродетель легко торжествовала. Томительное чувство морального дискомфорта, не покидающее читателя, было главным художественным открытием автора рассказа.