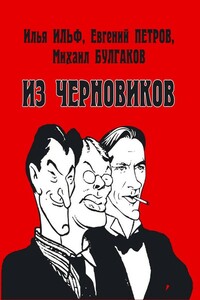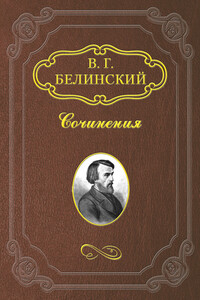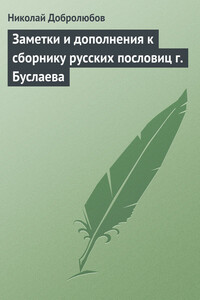История советской фантастики | страница 58
Еще более серьезную попытку расквитаться со стереотипами жанра предпринял в своем романе Владимир Дудинцев. Пассивного, «страдательного» Ольховского сменил активный, деятельный Лопаткин. Новая конструкция бортовой навигационной системы «Сирена» для лунных комплексов типа «Зенит», придуманная инженером Дмитрием Лопаткиным, превосходила все мыслимые аналоги. «Сирена» была уникальным созданием, чудом техники, шагом в грядущие столетия… И как раз поэтому изобретение Лопаткина категорически не устраивало Леонида Дроздова, директора Завода экспериментальных конструкций. Будь на месте Дудинцева какие-нибудь В.Понятовский с В.Маркеловым, Дроздов немедленно оказался бы по сюжету иностранным агентом и в конце был бы разоблачен бдительной заводской уборщицей или родной женой. Владимир Дудинцев не верил в шпионские хитрости. Напротив, Дроздов был самым что ни на есть «честным советским человеком», сыном Системы и ее продуктом. Естественно, сознательно Дроздов никому не желал вреда, он лишь подчинялся руководящей направляющей директиве и физически не мог с ней спорить. А раз не мог, то навсегда изгнал все сомнения. У Гранина директор Минаев хотя бы в душе признавал правоту подчиненного. Дудинцев продемонстрировал еще более безотказный административный механизм, великолепного «универсального солдата» партии. Раз новаторство Лопаткина не было записано в программе — значит, оно должно быть искоренено. Пусть даже вместе с человеком.
В советской фантастике Дроздов был родоначальником большой плеяды цельнометаллических «терминаторов», которые, сохраняя рассудок и еще целый спектр чисто человеческих качеств, могли топтать и совесть, и здравый смысл, раз программа считала это правильным и полезным для дела. (Потом были Вальган в «Битве в пути» Г.Николаевой, Онисимов в «Сшибке» А.Бека, Воробьев в «Дороге назад» Ю.Бондарева и, как вершина всего, — Кандауров в «Старике» Ю.Трифонова, где этот герой после тщательного медицинского обследования и на самом деле оказывался киборгом, точной копией человека…) К счастью, Лопаткин тоже был «железным малышом» (Ю.Трифонов), хотя и по-своему. Этот прагматик тоже не знал колебаний и рассчитывал все свои ходы и контрходы на много вперед. Самые «крамольные» по тем временам эпизоды (сцена в Совете Министров, описание ареста Лопаткина и разговор в кабинете следователя) свидетельствовали, что главный герой романа — отнюдь не жертва. Как становилось очевидным по ходу сюжета, все, происходившее с ним — включая арест и лагерь, — было заранее предусмотрено Лопаткиным, и конечная победа его над Дроздовым предрешена. Этого, похоже, не заметили критики, писавшие о романе, — и те, кто поначалу хвалил, и те, кто позднее яростно называл «Не хлебом единым» не иначе, как «предательством наших идеалов», а самому Дудинцеву сулил должность бургомистра Москвы, если ее вдруг захватят войска интервентов. Хотел того автор или нет, но его «положительный» изобретатель Лопаткин, защищающий правое дело, выглядел не меньшим «терминатором», нежели его антагонист. Дудинцев блестяще продемонстрировал всю ограниченность сталинского «романа социалистической мечты и фантазии»: в его произведении, по существу, отважно бились два робота, один из которых был слегка модернизирован и потому имел шанс на победу. (Не зря ведь нью-йоркский кинокритик Лилиан Бреннор на XIX Московском кинофестивале то ли в шутку, то ли всерьез уверяла автора этих строк, что сцена поединка двух механических стражей порядка в фильме «Робокоп» пришла в голову режиссеру Полу Верховену лишь после того, как кто-то из «русской» массовки подсунул ему американское издание романа «Не хлебом единым», в переводе, между прочим, названного «Контратака»).