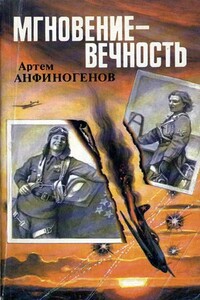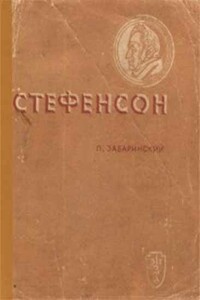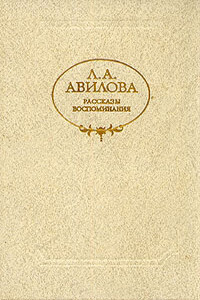А внизу была земля | страница 54
— Не профилирующий предмет, — улыбнулся сержант. Резкие складки на лбу летчика разгладились, лицо прояснело.
— Студент?
— Два курса архитектурного.
— На экзаменах по рисунку давали голову Сократа?
— Если бы… Корпел над Диадуменом.
— Олимпиец с копьем?
— Олимпиец с копьем — Дорифор, — сержант осторожно поправил полковника. — Диадумен — олимпиец-победитель. Олимпиец, который повязывает себя лентой. — Неожиданный, быть может, неуместный разговор смягчил, расслабил сержанта, его образцовая выправка потерялась, медленным, шутливо-грациозным поворотом головы и плавным движением рук он передал, чуть-чуть шаржируя, горделивость утомленного грека-триумфатора с лентой, изваянного Поликлетом. Радиошнур, вделанный в шлемофон летчика, свисал за его спиной китайской косицей.
Таким он и остался в памяти инспектора.
Проводы — нервы, ожидание — пытка.
Время на исходе, а горизонт светел, спокоен, чист, потом на небесном своде замаячит один-одинешенек… Наш ли? Наш. А дойдет, единственный из восьмерки? Он не летит, шкандыбает, клюет носом, покачивает крыльями, и стоянка, земля, безотчетно вторит судороге его движений…
Сел. «Лейтенант, — говорят на стоянке. — Виктор Тертышный».
— Разрешите доложить, товарищ полковник, пришел! — выпаливает летчик, оглушенный происшедшим, понимая пока что немногое: майора, водившего группу, нет, двух его замов нет, а он, пилотяга без году неделя — выбрался, явился.
— Вижу, что пришел. Группа где, лейтенант Тертышный?
Лейтенант ждет скорее поощрения, похвалы, чем требовательного спроса.
— Был поставлен в хвост, товарищ полковник. В хвост, а не в голову колонны поставлен, вот что достойно сожаления, — так он отвечает.
— Замыкающим последней пары, — продолжает летчик, — из атаки вышел — ни-ко-го, степь да степь…
— Вышли — влево?
— Вправо.
— А было условлено?
— Условлено влево. Но слева, товарищ полковник, — то ли вспоминает, то ли подыскивает оправдание летчик, — очень сильный огонь. Не сунешься, пекло… Я блинчиком, блинчиком…
— Вправо?
— Ага… Когда смотрю — один. Такое дело, курс девяносто, и домой…
— Сколько у вас боевых вылетов?
— Первый, товарищ полковник…
Что с него взять, с Тертышного…
Выезжал Василий Павлович и на передний край, в убежище из трех накатов, где воздух без паров бензина и пыли, куда ночью с реки тянет свежестью, а днем, с духотой и зноем, сгущается трупный смрад. Живя в соседстве с пехотой колебаниями и поворотами наземного боя, Потокин наблюдал за воздушными схватками, штурмовиками, поддерживая на последующих разборах вылетов инициативных, смелых командиров, помогая изживать шаблон, намечая пути дальнейших поисков в организации и ведении боя. Близость к пехоте, личные, многократно проверенные впечатления придавали суждениям Потокина убедительность. В этом смысле ему однажды особенно повезло: на НП, где он находился, был заброшен редкостный по тем временам трофей, прихваченный до ходу танкового контрудара вместе с термосами, финками, зажигалками, прочими солдатскими цацками, — немецкая полевая рация ФУГ-17. Компактная, надежная в узлах, на резиновом ходу. Потокин, нацепив литой резины наушники, шарил в эфире, когда появился утренний наряд «мессеров». Вслушиваясь, подстраиваясь на волну, Василий Павлович сквозь ветку тальника над головой следил, как приготовляются «мессера» к защите порученного им квадрата: запасаются высотой, выбирают освещение. Вскоре он их услышал. На волне, отведенной ведущему, ни воплей, ни посторонних команд. Беззвучное торжество дисциплины.