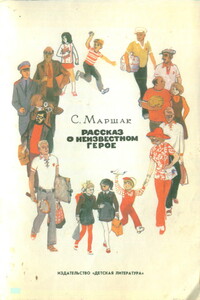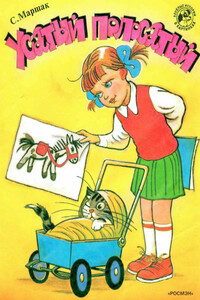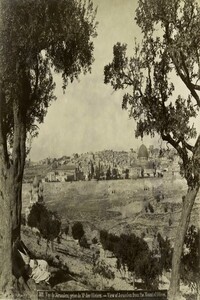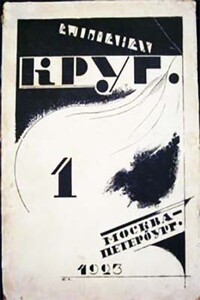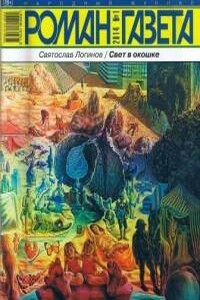Из незавершенного | страница 37
Конечно, нельзя да и не к чему накладывать запрет на такие мало значащие, модернистические аллитерации. Но совершенно очевидно, что именно эта легкая, поверхностная игра звуками порою заводит поэта - по его же собственному выражению - "куда-то не туда".
Слишком кудрявая, как бы зацветшая образами и созвучиями речь ведет к тому, о чем так гневно сказал когда-то Лев Толстой, получив письмо со стихами:
"Писать стихи - это все равно, что пахать и за сохой танцевать..." {32}
Особенно много случайных рифм и аллитераций в цикле стихотворений Вознесенского "Треугольная груша".
"Алкоголики" - "глаголешь", "прибитых" - "прибытие", "небесных ворот" "аэропорт".
Неизвестно, какое из слов в каждой из этих пар вызвало другое, созвучное ему: "прибитые" - "прибытие" или наоборот.
Вполне реалистично и убедительно сравнение аэропорта с "небесными воротами". Но в "Архитектурном отступлении" Вознесенского аэропорт - не просто ворота, а некий "апостол небесных ворот" (кроме того, что он еще и "автопортрет" поэта и "реторта неона"). А это настраивает автора на какой-то библейский, чуть ли не апокалиптический лад. Отсюда и алкоголики-ангелы, которым аэропорт нечто "глаголет", возвещая некое "Прибытие". Речь здесь идет о прибытии самолетов, но рядом с глаголом "возвещая" - да еще и с большой буквы - это слово звучит почти мистически.
Поэтическое воображение позволяет нам видеть в самых обычных явлениях нечто значительное, торжественное, даже таинственное. Но в "Треугольной груше" на непосредственные ощущения автора воздействует еще цепь звуковых ассоциаций, по-своему направляющая и отклоняющая в стороны поэтическую мысль. Он как бы пьянеет от аллитераций, найденных им же самим.
Вознесенский любит сближать идеи и понятия, которые Ломоносов называл "далековатыми". Что же, в этом-то и заключается задача и путь поэта - так же, как и ученого, который постигает мир, находя общее в явлениях, далеких одно от другого. Путь, а не самоцель.
И там, где это сближение у Вознесенского естественно и метко, оно доходит до ума и сердца читателя.
Вот отрывок из его "Сибирского блокнота":
Ты куда, попрыгунья
С молотком на боку?
Ты работала в ГУМе,
Ты махнула в тайгу...
Ты о елочки колешься.
Там, где лес колдовал,
Забиваешь ты колышки:
"Домна". "Цех". "Котлован".
Как в шекспировских актах
"Лес". "Развалины". "Ров".
Героини в палатках.
Перекройка миров.
Казалось бы, что общего между колышками, отмечающими в тайге расположение будущих построек, и условными обозначениями места действия в театре Шекспира?