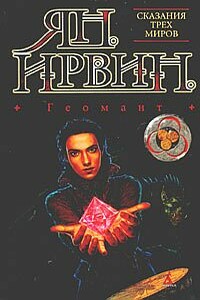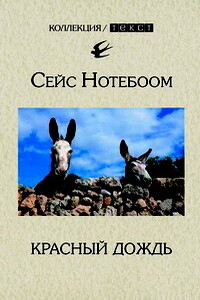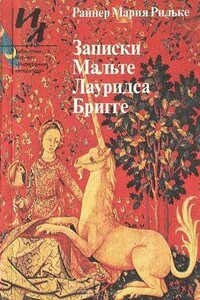Флорентийский дневник | страница 66
XXVIII. Отдать должное этому широкому хору заднего плана можно, лишь если дать ему петь во весь голос, что пока кажется несбыточным как ввиду средств, какими пользуется наша сцена, так и в смысле настроения все и вся подозревающей толпы. — Равновесия можно достичь только на пути строгой стилизации. Ведь разыгрывать мелодию бесконечного на тех же клавишах, по которым проходятся пальцы самого действия, — значит подлаживать к словам нечто великое и бессловесное.
XXIX. А это — не что иное, как введение хора, спокойно разворачивающегося за спиной ярких, сверкающих диалогов. Если тишина постоянно переживается во всем своем объеме, во всей своей весомости, то слова на переднем плане оказываются ее естественными дополнениями, и тогда можно добиться целостного изображения песни жизни — иначе она останется в стороне, уже хотя бы из-за того, что на сцене невозможно показать ароматы и вообще все смутные ощущения.
XXX. Вот крохотный пример, дающий представление о том, что я имею в виду:
Вечер. Маленькая комната. За столом в ее центре, под висячей лампой, сидят, поневоле склоняясь над своими книгами, двое детей. Их мысли витают в дальних далях. А книги только маскируют их бегство. Время от времени они окликают друг друга, чтобы не заплутать в большом лесу своей мечты. В этой тесной комнатушке они живут самыми разными, вымышленными жизнями. Они сражаются и побеждают. Возвращаются домой и женятся. Учат своих детей быть героями. И даже, наверное, умирают.
И я считаю это действием — вот как далеко заходят мои притязания!
XXXI. Но что была бы эта сцена без пения сияющей старомодной висячей лампы, без вздохов и всхлипываний мебели, без бури, завывающей вокруг дома! Без всего этого смутного заднего плана, сквозь который они продергивают нити своих рассказов! Насколько же иначе мечтается детям в саду, чем у моря или на террасе отеля! Есть ведь разница, вышивать ли по шелку или по шерсти. Надо видеть, что по желтой канве этой вечерней комнаты они неуверенно проводят несколько негнущихся линий своего узорчатого меандра.
XXXII. Я думаю теперь о том, каким образом заставить зазвучать мелодию полностью — такой, какой слышат ее эти мальчишки. Тихим голосом должна она парить над сценой, и по незримому знаку вступят и зазвучат тоненькие детские голоса, в то время как через тесную вечернюю комнату будет шелестеть широкий поток, уносясь из бесконечности в бесконечность.
XXXIII. Я знаю много подобных и еще более развернутых сцен. Смотря по тому, сколь ярка, то есть многостороння, будет стилизация или сколь скупы будут намеки, хор сам найдет себе место на сцене: тогда он начнет воздействовать и своим прямым присутствием — либо его участие ограничится голосом, широко и безлично взмывающим над горизонтом мгновения общности. В любом случае в нем, как в античном хоре, живет более мудрое знание; не оттого, что он судит о событиях, происходящих на сцене, а оттого, что он — основа, из которой выделяется та более тихая песнь, которая в итоге впадает в общее лоно, став более прекрасной.