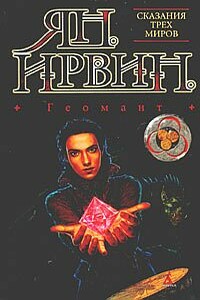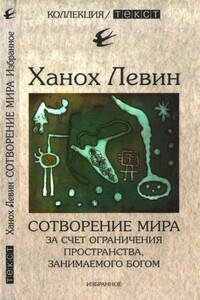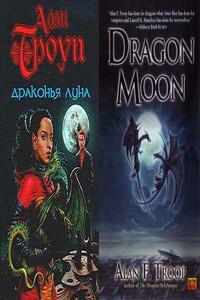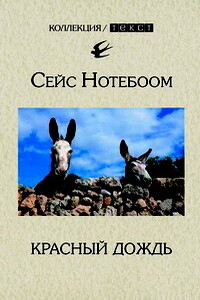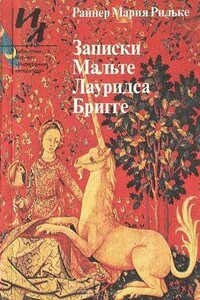Флорентийский дневник | страница 65
XXII. Для этого нужно распознать оба элемента мелодии жизни в их простейших формах; нужно из беспорядочных шорохов моря извлечь ритм прибоя, из запутанной суматохи будничного разговора выпутать живую нить, за которую держатся другие. Нужно сопоставить чистые тона красок, чтобы понять их контрасты и родство. Ради самого важного нужно научиться забывать многое.
XXIII. Когда двое делят одну тишину, им не надо говорить о мелодии своих мгновений. Она уже и сама по себе связывает их в одно целое. Словно пылающий алтарь, воздвиглась она между ними — а они робко питают священное пламя, скупо роняя слова.
Если я перемещу этих двоих из их ни на что не покушающегося бытия на сцену[69], то мне определенно придется показать двух любящих и объяснить, отчего они блаженны. Но на сцене этот алтарь незрим, и всем будет невдомек, к чему относятся странные жесты, наводящие на мысли о жертвоприношении.
XXIV. Есть два выхода из такого положения:
либо люди должны выйти на передний план, пытаясь многословно, при помощи непонятных жестов, рассказать, как жили раньше;
или:
я ничего не меняю в глубинной мотивировке их действий, а от себя поясняю ее такими словами:
вот алтарь, на котором пылает священное пламя. Отблеск его вы можете различить на лицах тех двоих, что стоят на сцене.
XXV. Лишь последняя возможность, сдается мне, достойна искусства. Она не даст затеряться существенному; череда событий не замутнится смешением элементов, если я изображу алтарь, связующий двоих одиноких, так, чтобы все его увидели и поверили в то, что он есть. Гораздо позднее зритель и сам увидит этот пылающий столп, и мне уже не придется давать никаких разъяснений. Гораздо позднее.
XXVI. Но алтарь — это только сравнение, да к тому же весьма приблизительное. По-настоящему надобно изобразить на сцене мгновение общности, когда действующие лица высказывают что-то заветное. Эту песнь, в жизни выпадающую на долю тысяч голосов дня или ночи, шороха леса или тиканья часов, их медлительного боя, этот широкий хор заднего плана, определяющий ритм и тон наших слов, пока еще невозможно наглядно представить на сцене родственными ей средствами.
XXVII. Ведь то, что называют «настроением» и чему в новейших пьесах отчасти и впрямь отдают должное, на самом деле — всего лишь первая и несовершенная попытка показать, как за людьми, словами и жестами проступают очертания ландшафта; вниманию большинства оно вообще недоступно, да и не может стать доступным для всех — из-за своей тончайшей интимности. Усиление природного звука или особое освещение, достигаемое техническими средствами, оставляют смехотворное впечатление, поскольку из тысячи голосов выделяют один-единственный, так что все действие повисает на одной ниточке.