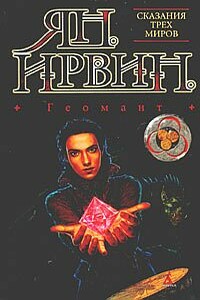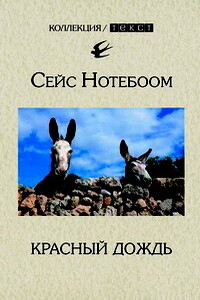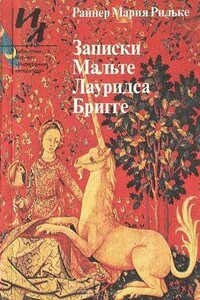Флорентийский дневник | страница 28
Те, что чувствуют вечность, выше всякого страха. Когда настает ночь, они всегда видят место, откуда придет новый день, — и не боятся.
Бесстрашие — вот что нужно для Лета. Весне можно быть робкой, робость — словно родина ее цветов; но плод требует жгучего и нерушимого солнца. Все должно быть готово к встрече: широкие ворота и надежные, крепко изогнутые мосты.
Люди, рожденные в страхе, приходят в мир, как на чужбину, — им не найти дороги к дому.
Не может быть ничего более святого для вас, чем материнство. Любая боль, причиненная вами больной священной болезнью женщине, отзовется в десяти следующих поколениях, и любая ее печаль, виновниками которой вы будете, бросит свою ужасную тень на сотни грядущих, полных боязни дней.
Будь ваши родители ближе к Лету, Весна далась бы вам без труда, и, отступая назад, из сумятицы чуждых, враждебных ощущений, вы не стали бы такими утомленными, не покрылись бы пылью.
Не обретет плода тот, кто не испытал благоговения. Ведь бесстыдство — точно буря, срывающая с ветвей все, что только еще зреет.
Так перестаньте жить настоящим — станьте для себя самих как бы грядущими. Вы пойдете вперед, опережая самих себя, и тогда не собьетесь с пути.
Этого мастера Весны делать не умели. Они, можно сказать, заблудились в себе. Но ведь они лишь смутно представляли себе, где, собственно, живут, и с детской готовностью верили своей эпохе, полагая, будто их родина — беломраморные гробницы. Вот поэтому-то они и не спешили, не торопили время, медлительно шагая сквозь чистый свет к месту, где над своей тихой целью воздвигли для себя своды церкви.
А нам не нужно строить церкви. От нас не должно остаться ничего. Мы пьем себя до дна, мы полностью отдаемся, мы растворяемся — до тех пор, пока однажды нашими жестами не станут кивающие верхи деревьев, а наша улыбка не воскреснет в играющих под ними детях…
Странное это было воскресенье, 22 мая. День с глубиной. Мне даже удалось перенести на эти листки то, что давно, я чувствовал, пылает во мне, — желание исповеди, ясность и решимость. В дальней прогулке по праздничной пиниевой роще на меня нахлынули три песни девушек[31], окативших меня волной внутреннего тепла, и Твой высокий гимн, завершающий новую книгу рассказов. В душе у меня был праздник — но какой же это праздник без Тебя? И я придвинул поближе кресло с высокой спинкой, грезя в нем Тебя, уселся напротив и принялся читать, пока на улице все больше вечерело, эти песни — одну за другой, и одна у меня пелась, плакалась другая, и я был чистым блаженством и болью — игрушкой в руках этих нежных, восково-бледных песен, теперь причинявших мне то, что я вложил в них, сочиняя. Вся тоска и нежность, что я дал им, захватила мне дух, словно обдав ветром весны, словно подняв меня ласковыми, белыми, родными руками — я не ведаю куда. Но на такую высоту, что дни казались деревушками с красными крышами и крошечными башенками церквей, а воспоминания — людьми, неразличимо и безгласно стоявшими, чего-то ожидая, в их дверях… Прочтя книгу и выпив все ее блаженства и боли, будто из одного источника, я почувствовал себя полным праздничной благодарности. И я стал на колени посреди костра вечерней зари, что всходила по высоким стенам моей комнаты, превращая ее в золотой рудник. И дрожь моего молчания вся до дна была трепещущей молитвой, вознесенной к священной Жизни, к которой я был столь близок в блаженные часы творчества. Только бы мне быть достойным войти в ее свершения с верой и верностью, только бы моя радость стала частицей ее великолепия, а мое страдание — плодоносным и большим, как блаженная боль дней ее весны. Только бы надо мной сияла безмятежность, что сияет над всеми ее творениями, подобно вечно тому же, вечно дающему солнцу, и в этом тихом свете я вышел Себе навстречу: я, пилигрим, — Себе, Царю, от вечности владеющему царством роз и венцом Лета в зените Жизни.