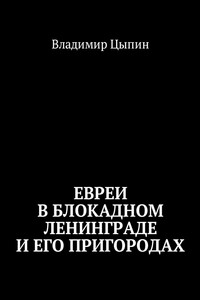Евреи в Мстиславле | страница 44
Кого сдать в рекруты, предоставлялось решить еврейским общинам. Стоявший во главе еврейской общины кагал, являлся посредником между нею и администрацией и осуществлял наблюдение за исполнением рекрутской повинности с правом сдавать в рекруты любого еврея. От еврейских общин, кроме того, требовали расплачиваться "штрафным" числом рекрутов за податные недоимки, за членовредительство и побег призывника (по два за каждого), причем разрешено было пополнять требуемое количество призывников малолетними. Эти обязанности вошли в круг деятельности кагалов, которые с этого времени стали обладать не только судебными и фискальными, но еще и полицейскими функциями. Правительство требовало только определенное число взрослых, совершеннолетних мужчин, физически здоровых и не старше 25 лет. Возраст совершеннолетия законом не устанавливался. По еврейским традициям совершеннолетие считалось при достижении мальчиком 13 лет и совершении над ним соответствующего религиозного обряда. Кроме того, еврейским общинам было предоставлено право сдавать в рекруты ("представлять за себя") пойманных беспаспортных единоверцев. Отсутствие прямого указания на то, кого надлежит считать совершеннолетним, равно, как и предоставление права общинам самим решать, кого сдать в рекруты, открыло широкие возможности для всякого рода злоупотреблений. В общинах процветала практика, когда богатые евреи откупались от призыва и вся тяжесть рекрутчины падала, главным образом, на беднейшую часть еврейства, не имевшую ни связей, ни протекций. С течением времени власти разрешили семьям заменять своего рекрута единоверцем — "добровольцем" из того же уезда, а с 1853 г. — евреями из других общин, не имевшими местных свидетельств и паспортов. Но у бедных евреев не было средств для найма заместителя. Официально от призыва освобождались семьи раввинов, купцов и старшин кагала на время их каденции, а также еврейские сельскохозяйственные колонисты, которых с каждым годом становилось в результате все больше. Очень часто план по призыву в еврейских общинах выполнялся за счет малолетних. В основном сдавали детей-сирот, детей вдов (порой в обход закона — единственных сыновей), бедняков, а также детей 7–8 лет, которых по ложной присяге 12 свидетелей записывали в 12-летние. На "совершеннолетие" тщедушного мальчика, явно неспособного к несению тяжелой солдатской службы, правительство смотрело сквозь пальцы и на это обстоятельство не обращало внимания. Главное — чтобы было поставлено причитающееся число рекрутов. Надо полагать, это делалось сознательно, в надежде, что еврейского ребенка, оторванного от родной среды, легче привести к "слиянию с коренным населением", что, в большинстве случаев, и происходило с теми мальчиками-солдатами, которые не погибали от разных детских болезней.