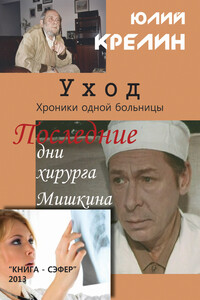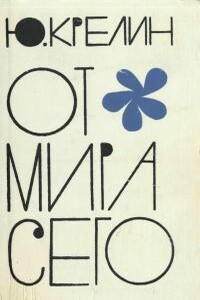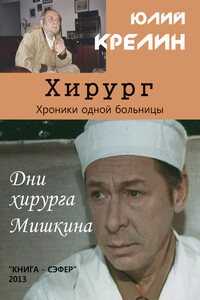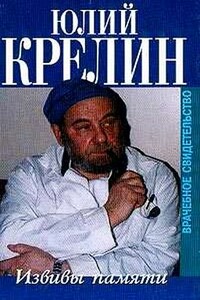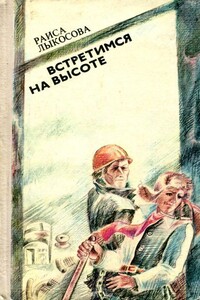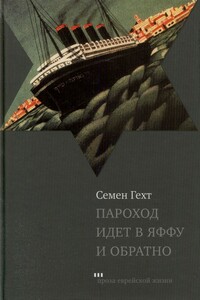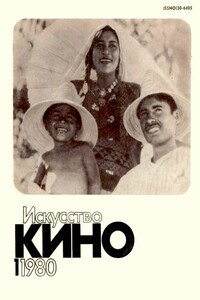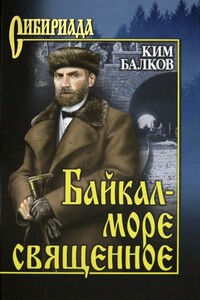Очередь | страница 57
Он говорил о том, как понимает жизнь и работу к концу своего пути:
– Различные запреты в работе наших хирургических отделений должны быть очень относительными, скорее рекомендациями, чем строгими установками. Требование неуклонного выполнения инструкций создает в отделении лишь видимость порядка. А ведь в нашем-то деле особенно нужна личная инициатива. Ведь не может быть у нас заведомых решений на все варианты жизни и смерти. Вот и увеличивается число тайных, порой пустяковых, но необходимых нарушений, растет число нарушителей, появляется психология нарушителя. Чуть возникает возможность, складывается удобная ситуация, которая в этих уже подпорченных тайным нарушением мозгах тотчас расценивается как необходимость для пользы дела (а дело наше, известно, благое – здоровье), и либо тебя обманут, либо, еще хуже, проявят злобность, с такой уже устойчивой психологией проявят – и к больному, и к руководству, в общем, к людям. И все разъедается постепенно, становится аморальным, коллектив перестает соответствовать собственным, ранее принятым моральным установкам. Появляется душок обмана. Работники не верят себе, никому, безответственны и опасно безмятежны, равнодушны к судьбе больного, к делу, и вся их ответственность и маета сосредоточены лишь на том, чтобы оберечь себя от возможных неприятностей.
Старый профессор говорил медленно, мысль как бы рождалась сейчас, в процессе разговора, хотя было совершенно ясно, что все это тысячекратно обдумано и внутренне утверждено.
– И, кроме того, я заметил, что люди чаще всего, больше всего ругают и находят в других как раз собственные недостатки. Жадные ругают скупость, фальшивые – лживость… Человек обрушивается на то, что считает возможным в себе. Когда не доверяют, запрещают, ограничивают, – точка отсчета всегда «я сам». Поэтому нарушающие всегда подозревают всех. К сожалению, я это поздно понял и вырастил уже целый сонм нарушителей. Говорю вам это как молодому руководителю отделения.
– Не так уж я и молода.
– А с моей колокольни вы девчонка, простите. И уж, конечно, простите за этот разговор – нудный и в молодости непонятный. Возможно, меня вдохновила на это красота юной собеседницы. – И он галантно склонил голову в ее сторону, а она принужденно улыбнулась в ответ. – И еще я вам скажу напоследок, коль скоро у нас пошел такой разговор…
Лариса подумала, что разговора, пожалуй, нет, что это сплошной монолог.
– Не правда ли, – продолжал профессор, – странная вещь: вроде бы честность, правдивость – это норма, обыденность, и, встретив ее, ты не должен, казалось бы, радоваться, а тем не менее радуешься, удивляешься, прощаешь сразу многое, закрываешь глаза на многое. Почему? Отвыкли? Да, вот так, к чему это я? Может, ваш вид, а может, диссертация ваша так… А собственно, диссертация как диссертация.