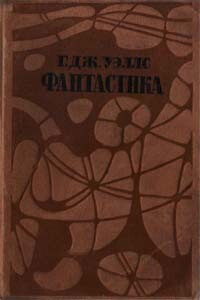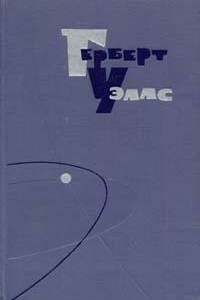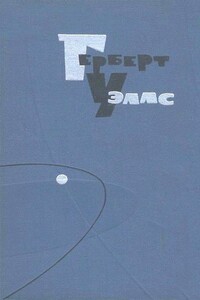Остров Эпиорниса | страница 9
„Однажды случилось, что рыбная ловля моя была крайне неудачна… смотрю… а мой Пятница расхаживает и подпрыгивает около меня как-то особенно странно. Я подумал, что он, быть может, наелся опять морских огурцов или какой-нибудь другой гадости; но, нет, оказалось, что он просто сердится. Я тоже был страшно голоден, и когда, наконец, мне удалось вытащить рыбу, то, понятно, я пожелал оставить ее для себя. В то утро расположение духа было скверное с обеих сторон. Он подскочил к рыбе и уже схватил ее, а я ударил его за это по голове. А он как кинется на меня! Боже!…
„Это он мне сделал, — сказал рассказчик, указывая на шрам. — Затем, он лягнул меня. Право, ломовая лошадь не могла бы лягнуть сильней. Поднявшись и увидев, что он намеревается снова броситься на меня, я кинулся бежать, закрывая лицо обеими руками. Но чудовище на своих длинных ногах бежало, как хорошая скаковая лошадь и наносило мне удар за ударом. Я бросился в лагуну и вошел в воду по шею. Птица осталась на берегу, потому что не любила воды и страшно боялась замочить даже ноги; она кричала, как петух, только хрипло как-то и бегала взад и вперед по берегу. Должен признаться, что, глядя, как это допотопное чудовище распоряжается на берегу, я почувствовал себя крайне жалким и беспомощным. К тому же голова моя и все лицо были залиты кровью, а тело превратилось в какой-то студень от ударов и болело невыносимо.
„Я решил переплыть на другой берег лагуны и оставить его одного, пока он немного поуспокоится. Я влез на самую высокую пальму и стал обдумывать происшествие. Никогда в течение всей моей жизни не чувствовал я себя до такой степени оскорбленным. Этот поступок был чернейшею с его стороны неблагодарностью. Я был ему более чем братом. Я, можно сказать, высидел его, воспитал его. Ах, ты противное допотопное животное! И поступить так со мною, человеком — царем творения, а!
„Я рассчитывал, что спустя немного времени он одумается и сам устыдится своего поступка. Я думал, что стоит мне поймать рыбу, подойти к нему попрежнему и кормить только рыбой, как все пойдет попрежнему. Так, куда тебе! Просто странное дело, насколько может быть злопамятна и свирепа такая птица. Он ненавидел меня!
„Не хочу утруждать вас рассказами о тех уловках, какие я перепробовал, чтобы вернуть старое. Да и не могу. У меня просто щеки горят от стыда, как вспомню о всех оскорблениях и затрещинах, какие я получил от этого адского пугала. Попробовал я и строгость. Я бросил в него куском коралла, с приличного расстояния, знаете, но он проглотил его. Я запустил в него раскрытым ножом, но он исковеркал его, хотя и не проглотил — очень уж он был велик для этого. Я попробовал морить его голодом, мешая ему ловить рыбу, но и тут не имел успеха; во время отлива он ходил по берегу и собирал различных червей и других животных, оставленных морем. Большую часть дня мне приходилось проводить, сидя по шею в воде, а остальное время на дереве. Однажды в поспешности мне пришлось забраться на такое дерево, которое оказалось недостаточно высоким; ну, и обработал же он мне ноги. Мне становилось невтерпеж. Приходилось ли вам когда-нибудь спать, сидя на пальме? Что касается меня, то подобное спанье нагоняло на меня самые ужасные сны. А срам-то какой! Подумать только! Это допотопное чудище расхаживает по моему острову, как герцог какой, а мне не оставалось ни квадратного дюйма, куда бы я мог безопасно ногу поставить. Я просто плакал от ярости. Я кричал ему, что не желаю, не позволю оскорблять себя какому-то проклятому анахронизму. Я кричал ему, чтобы он убирался, куда знает, чтобы он искал существо родственной ему эпохи, а меня оставил в покое. Но в ответ он только уставлял на меня свой клюв, проклятое пугало.