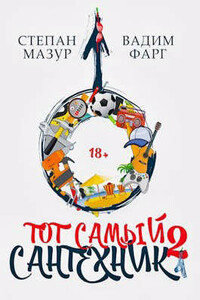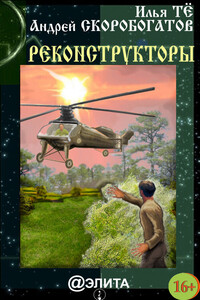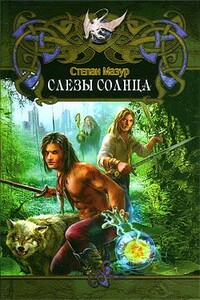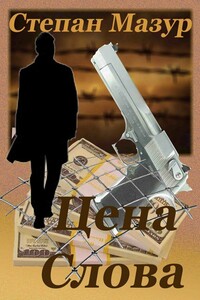Д.В.Ж.Д. 2035 | страница 13
Как бы ни было, военная база «Владивосток», и главный порт дислокации Российского Дважды Краснознаменного Тихоокеанского флота на момент Катастрофы обладала крупнейшим запасом оружия и боеприпасов на всем огромном Дальнем востоке! Имелись даже вертолёты - Ка-50 и Ка-52, «Чёрная акула» и «Аллигатор», для нового вертолетоносца, спущенного на воду как раз перед началом Войны.
Возникла вроде простая мысль - идти до Амура воздухом. Однако авиационное топливо в порту было в дефиците, пожалуй, еще большем, чем сама провизия. Но самое главное, на винтокрылой машине не возможно было привезти обратно много продуктов. А значит, для большой торговли вертолеты по определению не годились. Не удивительно, что капраз Седых и мои будущие инженеры остановили свой выбор на железнодорожном составе, ибо самое простое решение, ей богу, являлось для нас самым лучшим.
С тех пор весь Анклав потерял покой.
* * *
Мой бронепоезд (а после назначения командующим это был именно мой бронепоезд, чёрт подери!), я назвал незамысловато - «Варяг». Не слишком звучно и несколько даже фатально, но зато просто и благородно. Идти ко дну мой сухопутный крейсер не мог по определению, но встречать врагов огнем орудий под гордо реющим флагом - вполне.
В каждом вагоне пришлось делать окна из пластиглаза у самого потолка. Так как все боковые убрали, инженерам, чтобы мы не тратились на освещение состава днём, пришлось делать окна над головами. Правда, меньше, чем было по бокам ранее. Зато теперь никто не мог уничтожить нас, пробив слабое окно на вагонах. Теперь солнце должно было светить нам прямо в темечко, если, конечно, никто не собирался закрываться от него в тёмном-тёмном купе. В каждом купе теперь были заварены все окна.
Три из двенадцати вагонов доверху забили рельсами, шпалами и прочей железнодорожной снастью, превратив боевой и торговый бронесостав ещё и в шпалоукладчик - подобие классической ОПМС[8], починявшей дорогу без прекращения движения поездов в довоенные годы. На тот случай, если дорога сильно повреждена, сообщение прервано и рядом нет в помине даже встречной рельсо-полосы.
Хватит ли рельс трёх вагонов на тысячу километров пути? Этого, разумеется, не знал никто. У нас не было времени, чтобы привычно «прокатать» дорогу, гоняя ремонтные составы туда-сюда в обоих направлениях.
Беда заключалась не только в недостатке времени и возможностей для «пробных» прокатов. Угля для топки локомотива собрали только на половину наглухо закрытого, переваренного тендера, то есть всё, что осталось после работы мини-плавильни. Вторую, вернее, дальнюю половину открытого топливного вагона закидали всякой рухлядью, что была способна гореть под жаром угля - остатками мебели, досками и поленьями, опилками, картоном, стружкой и шелухой. Когда все это кончится - мы рассчитывали браться за топоры. Лес вдоль линии оставался радиоактивен - мы это знали прекрасно. Но дерево, как шутил капраз Седых, могло гореть и после смертельной дозы!