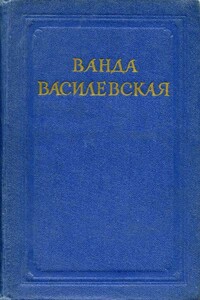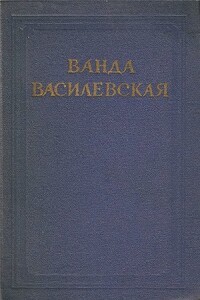Когда загорится свет | страница 64
Людмила вышла в коридор набрать воды. Движения у нее были прежние, ловкая, грациозная походка, поднятая голова; она держалась прямо, и все же в ее фигуре были какое-то утомление, медлительность. Что же в ней изменилось? О чем она думает? Ни разу еще с его возвращения между ними не было ни одного серьезного, искреннего разговора. Это было непохоже на Людмилу, которая раньше считала, что все должно быть выяснено, досказано до конца, ясно и прямо поставлено. Но теперь, когда ничто не было просто и ясно, она не пыталась выяснить отношения. Оба чувствовали себя связанными, оба исподтишка присматривались друг к другу, но, как только положение вызывало их на разговор, они ускользали, притворялись, что ничего не случилось, что все в порядке. Одна Ася как-то склеивала невяжущиеся безразличные разговоры. Но долго ли это может продолжаться?
Какие у Людмилы длинные ресницы, — сейчас, когда она, нагнувшись, месит тесто, это ясно видно. Да, у нее всегда были такие длинные черные ресницы вокруг светлых глаз.
— Я видел твою Феклу, — сказал он вдруг, сам того не желая, но было уже поздно. Слова были сказаны.
Людмила подняла голову и удивленно взглянула на него.
— Мою?
— Ну… Андреевну… Знаешь, чем она занимается в минуты, свободные от питья чая у соседей и от беготни по похоронам?
— Ну? — Людмила высоко подняла ровные темные брови.
— Милостыню просит на улице.
— Не может быть, ведь у нее пенсия, да она и с собой привезла деньги.
— И все же — может быть, я сам видел, только ты не огорчайся, не от нужды… конфеты себе покупает.
— Что ж ты хочешь, ведь у нее полнейший маразм.
— Хороший маразм! Жрет, как здоровый мужик на косовице!
— Пусть ее, она столько голода видела.
Его раздражало спокойствие жены. Она всему находит оправдание, — и ведь все это притворное. Ведь умела же она и вспыхивать, и сердиться, и стремительно несправедливо осуждать, а теперь — настоящая ханжа.
— Ты страшно снисходительна к людям… — бросил он насмешливо.
Она пожала плечами.
— Совсем не снисходительна. Но зачем раздражаться, когда ничего не можешь изменить? И с кого тут требовать? Пусть себе живет, как хочет. И так уж ей недолго жить осталось. А всякому хочется жить.
— Всякому?
— Я думаю, что всякому, Алексей.
— Любопытно… А мне казалось, что я видел много таких, которые предпочитали умереть. И умирали.
— Во имя чего? Именно во имя жизни?
Она резала лапшу, и Алексею показалось смешным, что они вдруг занялись философскими проблемами, обсуждение которых не мешает ей ровно отмеривать отрезаемые кусочки теста.