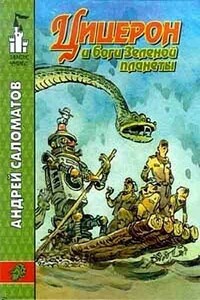Поляна, 2013 № 04 (6), ноябрь | страница 17
— Был поленом — стал мальчишкой, — заревели мы дурными голосами. — Обзавелся умной книжкой. Это очень хорошо, даже очень… — и здесь мы рявкнули приветствие чешских хоккейных болельщиков: — До-то-го!
В такие уж монументальные формы отлилось наше восхищение собственными умами.
— Вы что, ребят, выпили? Смотрите, а то Юлик где-то поблизости, — сказала нам в окно взволнованная и раскрасневшаяся Валька Бурмистрова, сестра того Кости Бурмистрова, который года два назад оборвался с вершины березы. Он сам, держась за вершину, отпустил ноги, думая, что прокатится до земли, как на орешине. Но вершинка обломилась, и он с нею в руках ахнулся о землю. Ничего, жив остался. Правда, все до одного авторитеты говорили, что потом, во взрослой жизни это еще отзовется, обязательно скажется. Мне, грешным делом, показалось, что в этом карканье было что-то от разочарования. Словно бы он обманул самые лучшие надежды. Обещал насмерть разбиться, да вот беда, жив остался. — Да что мне лев? Да мне ль его бояться? — словно и впрямь захмелев, сказал я.
— Вы все-таки не так громко, ага? — сказала наша осведомительница, стрельнув в меня хорошо мне знакомым остро любопытствующим, но и немного затравленным взглядом. Вот и еще одна жертва, сочувственно-печально подумал я. Влюблявшимся в меня девчонкам я мог только сочувствовать — знал, что шансов у них столько же, сколько у меня самого в моих влюбленностях. Почему это так неравномерно устроено?
— Да, старик, я тебе должен кое в чем признаться, — омрачился я. — Видишь ли, Тоня считает, что джаз — не совсем танцевальная музыка, и людям… Знаешь, в чем-то она права, — до того было неловко мне это говорить, до такой степени не нравился мне мой предательский голос, но что делать? Я же слово дал.
Сашок довольно обидно присвистнул и сказал:
— Во-первых, это не люди, а пионеры. Второе, — он так смачно затянулся из ладони, совсем по-взрослому, — как она считает, я понял, но и как ты считаешь — свышал два часа назад и еще не забыл. Вопрос к тебе: это говорит один и тот же чевовек?
Вот здесь-то и начала сказываться разница нашего с ним положения. Он, не принадлежа формально к лагерной жизни, был свободней, даже развязней. Он не ездил сюда всю свою жизнь, как ездил я. Изо всего лагеря он был связан только со своей матерью и со мной, я же — тысячью нитей был соединен со всеми. Я был знаком, и давно знаком с сотнями ребят и девчонок. Даже среди мелюзги я различал очень многих, потому что мелюзга то и дело кому-то из сверстников приходилась то братишкой, то сестренкой.