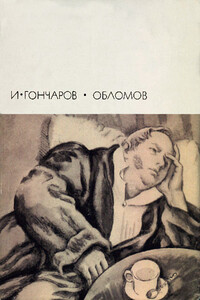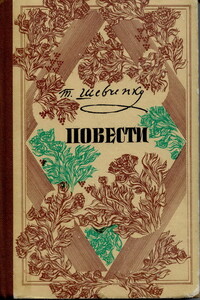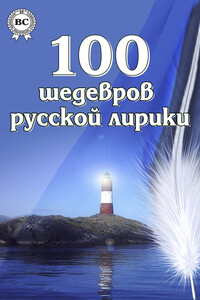Кобзарь | страница 38
столы гайдамаки накрывают в ряд.
Мед несут, горилку, с яствами спешат.
Над лужами крови, в зареве пожаров
пир идет последний.
«Гуляйте, сыны! Пейте — пока пьется!
Бейте — пока бьется! —
Максим возглашает. — А ну-ка, кобзарь,
ахни плясовую — пусть земля трясется
от гульбы казачьей, — такую ударь!»
И кобзарь ударил:
«А мой батько был шинкарь,
чеботарь;
а мать была пряха
да сваха.
Братья-соколы росли,
привели
и корову из дубровы
и мониста принесли.
А я себе — Христя
в монисте;
на паневе листья
да листья,
черевики да подковы.
Пойду утром я к корове,
и корову напою,
подою,
да с хлопцами постою,
постою».
«Ой, гоп среди круга!
Не журись, моя старуха,
закрывайте, дети, дверь,
стели, старая, постель!»
Все гуляют. Где же Гонта?
Что он не гуляет?
Что не пьет он с казаками?
Что не подпевает?
Нету Гонты. Не до песен
ему — не иначе...
А кто поздно по Умани
в кирее казачьей
ходит-бродит одиноко,
как тень на кладбище,
груды мертвых разрывает,
все кого-то ищет?
Отыскал два детских тела
и пустым базаром,
пробираясь через трупы,
в зареве пожаров,
их уносит. Это Гонта,
горем удрученный,
сыновей несет, укрывши
киреею черной,
чтоб предать земле казачье
тело по порядку.
Переулками проходит
темными украдкой.
Пусть никто того не видит
и никто не знает,
как сынов хоронит Гонта
и как он рыдает.
Вынес в поле, от дороги
в сторону шагает.
и ножом копает яму.
А Умань пылает,
Озаряет степь, могилу,
детям в лица светит...
Будто спят в одежде мирно,
набегавшись, дети.
Что же Гонту в дрожь кидает,
будто клад скрывает
Гонта ночью? По Умани
его окликают.
Как не слышит — роет Гонта
ножом, что лопатой.
Сыновьям в степи готовит
просторную хату.
Приготовил. Кладет рядом
сыновей в ту хату.
Слышит Гонта, снова слышит:
«Мы не ляхи, тату!»
Кумачовый из кармана
платок вынимает.
Крестит их, целует в очи,
платком покрывает.
Покрывает по закону
головы казачьи.
Приоткрыл, взглянул еще раз.
Горько-горько плачет...
«Сыны мои! Поглядите
на мать-Украину.
За нее и вы погибли,
и я тоже сгину.
А кто меня похоронит?
В чужедальнем поле
кто заплачет надо мною?
Доля моя, доля!
Несчастливая, лихая,
горькая судьбина,
для чего детей послала,
меня не убила?
Лучше б меня проводили,
как я провожаю».
Осенил крестом последним,
землей засыпает:
«Почивайте, мои дети,
в могиле унылой.
Для сынов другой постели
мать не постелила.
Без цветов в земле холодной
почивайте, дети.
За меня молите Бога:
пусть на этом свете
покарает страшной карой —
иного не чаю.
Только вы меня простите,
я вам все прощаю».
Закопал, сровнял с землею,
чтоб не видно было,
чтоб никто не знал на свете