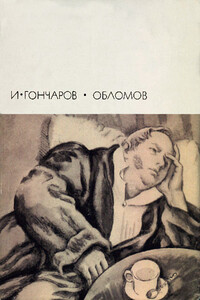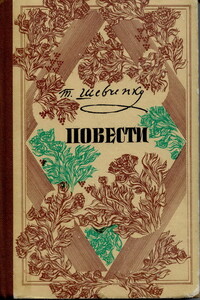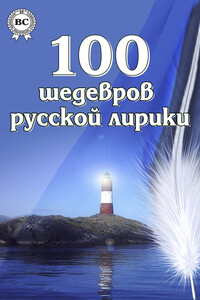Кобзарь | страница 37
«Карай ляхов снова!»
Покатились, отступая,
бойцы narodowi.
Побежали старцы, дети,
хворые, калеки.
«Гвалт! Ратуйте!» Полилися
кровавые реки.
Море крови. Атаманы,
стоя средь базара,
кричат разом: «Добре, хлопцы!
Кара ляхам, кара!»
Но вот ведут гайдамаки
с езуитом рядом
двух подростков. «Гонта! Гонта!
Твои, Гонта, чада.
Раз католиков ты режешь,
то зарежь и этих.
Что же смотришь? Твои, Гонта,
католики-дети.
Подрастут, тебя зарежут —
и не пожалеют...»
«Пса убейте! А щенят я —
рукою своею.
Признавайтесь перед всеми,
что веру продали!»
«Признаемся... Мать учила...
Мать... А мы не знали!..»
«Замолчите! Боже правый!..»
Собрались казаки.
«Мои дети — вражьей веры...
Чтобы видел всякий,
чтоб меня не осудили
братья гайдамаки, —
не напрасно присягал я
резать ляхов-катов.
Сыны мои! Мои дети!
Малые ребята!
Что ж не режете вы ляхов?»
«Будем резать, будем!..»
«Нет, не будете, не верю;
проклятою грудью
вы кормились. Католичка
вас на свет родила.
Лучше б ночью вас приспала,
в реке б утопила!
Греха б меньше. Умерли бы,
сыны, не врагами,
А сегодня, сыны мои,
отцу горе с вами!
Поцелуйте ж меня, дети,
не я убиваю,
а присяга». И свяченый
на них подымает!
Повалились, захлебнулись.
Кровь, слова глотали:
«Тату... Тату... Мы — не ляхи!
Мы...» И замолчали.
«Закопать бы?..» — «Нет, не нужно —
католики были.
Сыны мои! Мои дети,
что вы не убили
мать родную, католичку,
что вас породила,
ту, проклятую, что грудью
своей вас кормила!
Идем, друже!»
Взял Максима,
побрели базаром.
Снова вместе закричали:
«Кара ляхам, кара!»
И карали: страшно-страшно
Умань запылала.
Ни в палатах, ни в костеле
ляхов не осталось,
все легли.
Такое видеть
прежде не случалось.
Пламя в небо полыхает,
Умань освещает.
Католическую школу
Гонта разрушает.
«Ты моих детей учила
на позор, измену!
Ты учила неразумных, —
разносите стены!
Бейте! Жгите!»
Гайдамаки стены развалили.
Головами об каменья
езуитов били,
а школяров — тех в колодцах
живьем утопили.
До ночи глубокой палили и били;
души не осталось, кого бы казнить.
«Где вы, — кричит Гонта, —
людоеды, скрылись?
Детей моих съели, постыло мне жить!
Тяжело мне плакать, не с кем говорить!
Сынов моих милых навеки не стало;
где вы, мои дети? Крови, крови мало!
Шляхетской мне крови хочется испить!
Хочу, хочу видеть, как она темнеет,
как она густеет... Что ветер не веет,
ляхов не навеет! Постыло мне жить!
Тяжело мне плакать! Звезды в небе ясном!
Сокройтесь за тучу — не нужен мне свет!
Я детей зарезал! Горький я, злосчастный,
Куда притулиться? Нигде места нет!»
Так метался Гонта. А среди базара