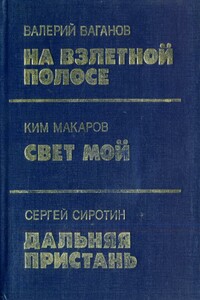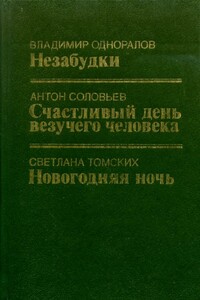Признание в Родительский день | страница 55
Я высвободил из контейнера миску и оставил ее женщине — покормить старика. Человек ведь…
Шефа нашего подменили. Поджарил колбасу, им же самим забракованную сегодня утром, и запустил ее с гарниром на продажу. Покропил водой черствые булочки и, подержав их в духовке, благословил меня с ними в вагоны. Чудо: булочки стали свежее, чем были, когда испекли.
Стало совсем жарко. Воздух раскален так, что вещи даже в тени делаются горячими. Появились дыни, арбузы, абрикосы. Купил ведерко персиков и занес к Вере в служебку. С темнотой ожидаем прохлады.
Вечером Вера рассказала мне свою историю. Она сирота. Отец и мать ее, геологи, погибли на Севере — замерзли в пургу. Еще ребенком она с младшей сестрой попала на воспитание к тетке. Сцены ревности бездетных супругов на виду у племянниц. Измены дядьки жене. Упреки в куске хлеба; когда стали подрастать — нечистые заигрывания, превратившиеся в прямые домогательства. Теперь они с сестрой живут на квартире.
— Вот и все, — сказала Вера и смахнула с головы пилоточку. — А теперь давай о чем-нибудь другом.
Колеса постукивали убаюкивающе, прохладный ветер из окна ласкал нас нежными прикосновениями. Я чувствовал рядом дыхание девушки, уютное тепло и все оттягивал минуту расставания.
Что-то негромко напевая себе под нос, я возвращался по перрону в штабной. Поезд стоял на крупной станции, было около трех часов ночи. У вагона переговаривались бригадир поезда, милиционер, носильщик и женщина, пассажирка, которая сегодня днем кормила супом старика. На тележке рядом сидел сам старик. Милиционер шелестел бумагами, женщина в сторонке плакала. Наконец, милиционер скомандовал что-то носильщику, тот покатил по перрону тележку. Было что-то предельно тоскливое в их фигурках, удалявшихся по пустынному вокзалу, — сонного носильщика, молодого паренька-милиционера, помогающего толкать тележку, и старика, покорно сидящего на ней.
Человек ведь…
Утром по приезде в Ташкент, оставив сторожить ресторан двух женщин-поваров, мы пошли в город, на базар. Такова была воля коллектива, как сказала директриса Жанна Борисовна, и против этого уже не попрешь.
Случайно задержавшись возле киоска «Союзпечати», я оглядел со стороны нашу бригаду. Мы были довольно живописной компанией. Впереди, в пляжной фуражке с бахромой, в брюках и кофте, выступала директриса. Она, как полководец, возглавляла остальных, скрывавших остатки робости под маской показных равнодушия и беспечности. За Жанной Борисовной, этакой павой в пышном вечернем платье с блестками и огромной брошью, плыла Фисонова. На голову она додумалась — при ожидаемой немыслимой жаре — надеть шиньон. Повязанная простым крестьянским платком, следом шла Шурочка. На ней было обычное серое платьице и старенькие туфли. Со скучающей физиономией беспризорника шел, руки в карманах, шеф. На нем были цвета школьной формы брюки и пиджак, застегнутый только на одну имеющуюся пуговицу, облезлые ботинки, закрученные медной проволокой, и защитная шляпа-панама на голове. Последним невозмутимо вышагивал Семеныч с хозяйственной сумкой. Вид у него был совершенно домашний: словно у себя в поселке он вышел купить кой-чего к обеду.