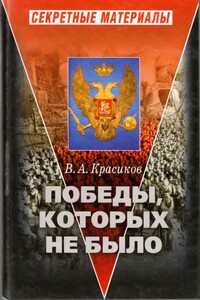Северная война, или Блицкриг по-русски | страница 66
По его условиям Россия не только вновь обрела «Водскую пятину» — бывшую колонию Великого Новгорода (Ингрию и Карельский перешеек), но и присоединила всю Ливонию (Лифляндию и Эстляндию) с Моонзундским архипелагом и островами Финского залива, а также небольшую область Финляндии с Выборгом. Это более чем в два раза превысило утерянное Московией наследство новгородцев, необходимостью вернуть которое отечественная историография обычно объясняет мотивы нападения на Швецию в 1700 г.
Оккупированные русской армией в ходе войны территории страны Суоми возвращались Стокгольму. За Ливонию и Моонзунд Россия секретным артикулом обязывалась выплатить 2 миллиона рейхсталлеров (1,5 миллиона рублей), причем только полновесной серебряной монетой в срок с февраля 1722 г. по сентябрь 1724-го. Шведы также получали право беспошлинного вывоза русского хлеба на 50 000 рублей в год и на 100 000 товаров, ассортимент коих скандинавы определяли сами. Кроме того, статьи договора обговаривали возвращение всех военнопленных, амнистию укрывшимся у противника дезертирам и предателям (за исключением украинцев, которых царь простить отказался), и прочие, обычные в подобных случаях вещи.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Ко всему вышеизложенному необходимо добавить, что 1,5 миллиона рублей долга за присоединение новой территории Россия вовремя отдать не смогла. Победители, хотя, конечно, и не до такой степени, как бедные ресурсами шведы, оказались почти разорены войной[53]. Поэтому «Ливонская контрибуция» камнем на шее повисла у страны.
Из-за нее в 1723 г. Петр был вынужден до минимума урезать жалованье всем, кроме иностранных специалистов (и до этого получавших, кстати, в два раза больше любого русского на той же работе), а жалование чиновникам так и вообще пришлось выдать неходовыми товарами. Лишь 9 марта 1727 г. шведский король передал русскому послу расписку о принятии всех причитающихся денег. Впрочем, в России звонкие фанфары воинской славы всегда ценились выше скучных финансовых подсчетов. И потому эта информация почти всегда остается за рамками работ отечественных историков.
И еще об одной цене, тоже обделяемой вниманием российской историографии — о стоимости войны в человеческих жизнях. Шведы, как принято у все подсчитывающих и учитывающих европейцев, называют сравнительно точную цифру потерь своей армии — 150 000 убитых, умерших, раненых и попавших в плен солдат (на всех театрах боевых действий, в сражениях со всеми членами Северного союза). Принимая во внимание, что из плена домой вернулись далеко не все (из России, например, не более 5000 человек), цифра безвозвратной убыли шведских полков составит порядка 80 000 человек, из которых примерно три четверти можно отнести на счет российских войск.