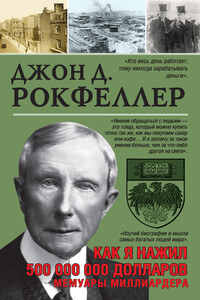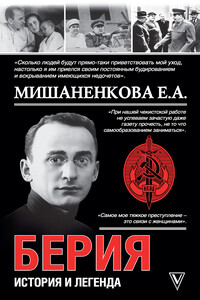С русскими не играют | страница 27
Еще в Версале я боялся, что участие Франции на Лондонской конференции по вопросу о статьях Парижского мира относительно Черного моря может быть использовано с такою же наглостью, какая наблюдалась у Талейрана в Вене, для того чтобы пристегнуть франко-германский вопрос к программе конференции. Поэтому, я при с помощью внешних и внутренних влияний воспрепятствовал участию Фавра в этой конференции, несмотря на обращения с разных сторон. Сомнительно, чтобы в 1875 г. сопротивление Франции нашему нападению на нее было бы таким слабым, как думали наши военные. Надо не забывать, что в договоре от 3 января 1815 г. между Францией, Англией и Австрией побежденная (и частично еще оккупированная неприятелем) Франция, изнуренная двадцатью годами войны, все же была готова выставить для коалиции против Пруссии и России 150 тысяч солдат немедленно и 300 тысяч позднее. 300 тысяч старых солдат, которые были в плену у нас, вновь вернулись во Францию. Наконец, сильная Россия в качестве союзника оказалась бы, конечно, не на нашей стороне, как в январе 1815 г., и не благожелательно нейтральной, как во время германо-французской войны, а возможно, и проявила бы враждебность у нас в тылу. Из циркулярной депеши, разосланной Горчаковым в мае 1875 г. всем русским миссиям, видно, что русскую дипломатию уже тогда провоцировали действовать против нашей мнимой склонности к войне. За этим последовали суетливые старания русского канцлера испортить наши (и в особенности лично мои) хорошие отношения с императором Александром. Эти старания проявились, между прочим, в том, что Горчаков через посредство генерала Вердера вынудил меня отказаться дать обещание нейтралитета в случае русско-австрийской войны. Тот факт, что после этого русский кабинет непосредственно и притом тайно обратился к венскому кабинету, опять-таки знаменовал такую фазу горчаковской политики, которая препятствовала моему стремлению к монархически-консервативному тройственному союзу.