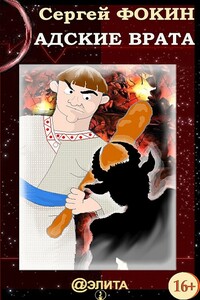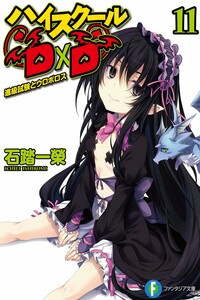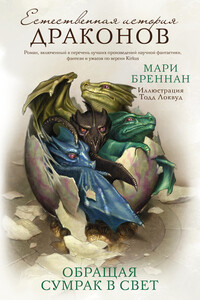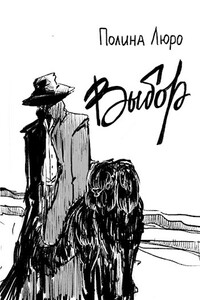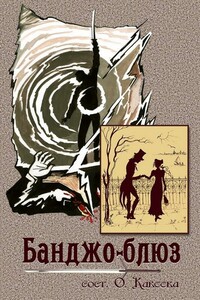Ночь перед Рождеством, 2020 | страница 64
Ещё лучше, как ни странно, продавалась чистая бумага. То ли не перевелись на Руси летописцы, то ли почта стала самоорганизовываться в народе, но факт остаётся фактом. В каждом населённом пункте имелся почтальон, он собирал со всех соседей конверты без всяких марок и при встрече со своими коллегами из других краев передавал им. Таким образом, расходились письма в поисках адресатов и мыкались, случалось, месяцами.
Собирать макулатуру и металлолом, как делали когда-то счастливые дети страны Советов, стало негде.
Но конечно самым большим капиталом было признано умение что-нибудь изготовить собственными руками. Во-первых, чтобы обеспечить свои потребности, а во-вторых, суметь предложить услуги соседям, которые взамен подсобят в каком-то другом деле. Таким образом, люди, привыкшие зарабатывать деньги перепродажей, оказались за бортом жизни. Им пришлось переквалифицироваться в бандитов (слава Богу, от одних до других путь недалекий), учиться новым профессиям (для способных на такой подвиг) или вспоминать, чему их учили в учебных заведениях. В последние годы перед лихолетьем большинство молодёжи после колледжей и университетов не могло устроиться по полученной специальности. Стране требовались рабочие и инженеры, а выпускались менеджеры да офисные работники. С таким багажом знаний далеко не уедешь, особенно в кризисной ситуации. После гражданской войны товарооборот упал почти до нуля, потому что производить товары стало некому и не из чего. Торговля свелась к натуральному обмену.
Вообще, революция, разразившись вполне предсказуемо и прокатившись пожаром по всей Росси, как лекарь, вскрыла все её язвы и сама же их залечила. Другими словами, просто вырезала. Руководить в стране стало невозможно, поскольку главные беды, из века в век проедающие плешь каждому главе государства, обострились донельзя.
В первую очередь это касалось дорог, которые в контексте огромных территорий попросту перестали существовать в том виде, в каком были привычны последние пятьдесят лет. Асфальтовые покрытия разрушались, зарастали травой, щебень утопал в грязи — и все они мало-помалу превращались в обыкновенные грунтовые. Дураки, вторая из бед, как ни странно, не исчезли. Их количество в процентном отношении к общей массе людей осталось прежним, что лишний раз подтвердило: менталитет русского человека неистребим.
Где-то на юге, поговаривали, появилась организация, которая взяла на себя смелость объединить разбросанные по лесам сёла да городки в полноценное государство. Но, поскольку связи в стране не было никакой (мобильная исчезла в первые же месяцы войны, а потом о ней попросту забыли; телефонные станции, если и оставались какое-то время в зарезервированном виде, в конце концов, были подмяты под себя враждующими сторонами и оказались также разрушенными), то сам вопрос объединения сразу превратился в вялотекущий. Иногда, раз в полгода, сельским старостам приходили маловразумительные депеши с призывами, но отвечать на них никто не собирался: чистая бумага была в цене.